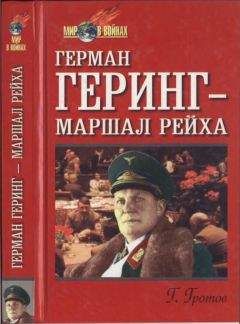И тут вошла секретарша:
— Владимир Алексеевич, вам звонит супруга товарища Дорошина.
В кабинете установилась тишина. Сашка даже вперед подался, как будто мог услышать предстоящий разговор. Рокотов снял трубку:
— Здравствуйте, Ольга Васильевна… Да, спасибо… Как самочувствие Павла Никифоровича? Отлично… Значит, скоро выйдет на работу? Что? Хорошо, но удобно ли это? Обязательно буду вечером. До свидания. — Он положил трубку и сказал ребятам: — Старик просил зайти.
Впервые за все последние годы у Дорошина оказалось достаточно свободного времени. Появилась возможность подумать всерьез о многих вещах, для которых в каждодневной текучке не находилось времени. Привычка жить безоглядно принесла с собой забвение многих дел, относящихся к личному, к семье. И когда у него волей несчастья оказалось много дней, не заполненных работой, так уж получилось, что пришлось вспомнить о вещах, исполнение которых всегда откладывал на будущее.
Написал письмо сыну. Он мог себе только представить, как был Юрка удивлен, получив от отца, впервые в жизни, письмо. Девять лет уже сын-офицер служил на Дальнем Востоке, появляясь раз или два раза в пятилетку в доме родителей. Общение с отцом было трудным, его характер могла выдерживать только жена, и сын обычно не задерживался долго. У него находились срочные дела в столице, и он уезжал через недельку, пообещав писать. Невестку свою Дорошин вообще не видел, разве только на фотографии, которую прислал сын. А ведь два года уже женат, мог бы и в гости заявиться.
Впрочем, написать об этом Дорошин не захотел. Раз не тянет Юрку в родительский дом, — значит, чего уж тут уговаривать? Как хочет.
А душа болела, потому что сына любил крепко и самоотверженно. Вспоминал годы его детства, когда приучал мальчишку быть мужчиной, скрывать свои чувства, эмоции. И сам никогда не поцеловал его в щеку, чтобы не выглядеть смешным. В жизни много страдал оттого, что, будучи человеком незлым, очень быстро становился понятным для своих подчиненных и терял авторитет в их глазах. В сорок девятом, получив назначение сюда, на Славгородщину, решил для себя, что больше ошибок повторять не будет. Приехал начальником стройучастка и студентом-заочником третьего курса горного института. За эти годы прошел путь огромный и трудный. Много ошибок сделал, однако в главном устоял: воспитал сам в себе многое из того, чему завидовал в других. И город построил, и рудник, и карьер. А теперь вот свалила проклятая болячка. Не дает сил для последнего рывка.
Задумался как-то о том, что приведись — многое начал бы по-другому. К старости мудрее стал. Все воевал с начальством, все доказывал. А кому это нужно? Прослыл человеком строптивым, неуживчивым. Хоть и ценят его в министерстве, да вряд ли любят. А близкие? Кто ушел в Москву, в науку подался — и теперь даже не пишет, кто здесь обосновался — и нос в сторону воротит, потому что теперь от него не зависит. Есть и такие, что войну ему, учителю своему, объявили. Вроде Рокотова. Вот о ком он пока что ничего плохого сказать не может, так это о Диме Михайлове. Да только признаться себе не хочет, что талантом бог Диму пообидел. Заурядный инженер. Поэтому и в «мыслителях» недолго задержался.
И Крутов. Правая рука. Верная, надежная. Испытанная годами, а это не фунт изюма. Годы — они все расшифровывают в человеке. Как не таись, время все равно тебя раскроет. Паша надежно прикрывал Дорошина со стороны производства, брал на себя все хлопоты по рядовым, будничным делам. И исполнитель приличный. А тут не устоял перед Рокотовым. Один заслон от посягателей — он сам, Дорошин. И никуда не денешься. Надо стоять. Больше тебя прикрыть некому.
Да, не ошибся он в Володьке. Инженер божьей милостью. Масштаб есть. Решает смело, крупно. Большой руководитель растет. Да что там растет, вырос уже. За надежной и широкой дорошинской спиной. А пришел к нему мальчишкой. Робким, неуверенным. За эти годы, что нянчил его Павел Никифорович, окреп Рокотов. Теперь вот не только сам идет, но еще диктовать пытается.
Павел Никифорович не хотел себе признаться, что злости, обиды на Рокотова давно уже нет у него. Осталось одно: принцип. Из-за принципа этого не хотел он отдавать свои позиции. Долго и мучительно искал выход, как соблюсти приличие? Как не дать возможности подумать кому-либо, что ослаб Дорошин, не может уже бороться, не может доказать свою точку зрения и отстоять ее. Вспомнил разговор с Крутовым. Паша принес все бумаги, чтоб отчитаться за два месяца, которые Дорошин был не у дел. А когда доложил все по производству, вынул из кармана две бумажки и протянул их Павлу Никифоровичу:
— А теперь вот это…
Дорошин глянул мельком и все понял. Вот так Володька… Да что он, с ума сошел, что ли? Разве ж такие бумаги дают кому-нибудь?.. Да с этими писульками езжай прямо в обком партии и считай, что товарищ Рокотов подставлен самым лучшим образом. Будет ему по первое число, да еще с добавкой. Как же это он не подумал?
— Ты потребовал? — сурово спросил он у Крутова. Тот кивнул:
— Я же знаю, вы спросите…
Дорошин не хотел показывать Паше, что доволен его предусмотрительностью. От истории с бумажками припахивало нехорошо, и очень даже кстати, что взял их именно Крутов. Пусть теперь мальчишка повертится. Просто надо будет ему объяснить кое-что. А то ведь волю какую взял.
Крутов сидел и ждал вопросов, но их не было. Бумажки лежали на столике у дивана, а Дорошин сумрачно разглядывал узоры на ковре.
— Я видел, что делают «мыслители» вместе с Рокотовым, — несмело сказал Паша.
— Ну?
— Это любопытно, Павел Никифорович… Могу вас заверить. Вы взгляните при случае.
Паша ждал взрыва и был готов принять его на свою склоненную голову, однако Дорошин только засопел громко. Крутов решил продолжать мысль:
— Я ориентировочно прикинул возможности обоих проектов. Кореневский карьер обойдется миллионов на шестнадцать дешевле… Это за счет компенсации на жилье переселенцам.
— А меня ты спросил? Быстро же сориентировался.
— Я никому не давал авансов на этот счет, Павел Никифорович, — голос Крутова был робким, неуверенным. — Я просто ознакомился с материалами. И еще раз хочу сказать: это перспективно.
— А руду богатую где ты возьмешь? План пересматривать? Кореневку я щупал еще в пятидесятых. Отказался от нее. А теперь вы мне ее опять навязываете.
— Я ничего не навязываю… Я хотел бы, чтобы вы глянули расчеты. Только глянули, и все.
Дорошин повернулся спиной к Паше. Уже лежа так, сказал:
— Ты-то чего суетишься?
— Я исхожу из пользы делу. В конце концов, я инженер.
Дорошин не отвечал. Только сопел упрямо. Его начинало злить желание Крутова во что бы то ни стало навязать ему, Дорошину, свою точку зрения. Знай место и делай то, что тебе поручили. Ишь, мыслитель. Вот бог помощничками наградил. Лезут туда же… Появилась опять злость на Рокотова: диверсиями в коллективе занимается. Со всех сторон окружает советчиками, которые в уши жужжат. На измор хочет взять. Дудки!
— Ты вот что, — Дорошин не оглядывался, — ты иди к себе и занимайся тем, что входит в круг твоих обязанностей. Все остальное буду решать сам. А когда позову и спрошу: «Ответь мне, Павел Иванович, на такой вопрос, дай мне совет…», тут и советовать будешь. А сейчас счастливо тебе. Будь здоров. Позванивай. А я отдохну малость. Устал.
Он не оборачивался, зная, что Крутов осторожно поднялся, собрал свои бумаги и, сокрушенно покачивая головой, осторожно вышел из комнаты. Через две минуты за окном загудел мотор машины, хлопнула дверца. Уехал.
Было немного жаль его, тем более что знал Дорошин: сейчас Паша будет глотать какие-то свои успокоительные таблетки, переживать, а может, и писать очередное заявление на отпуск к делам пенсионным. И все же иногда профилактику и ему надо делать. Быстро осваивается с дружеским к нему обращением, пытается на шею взгромоздиться. Знает Дорошин такой тип людей: чем к ним лучше, тем они к тебе с большим неуважением. Твою доброту слабостью считают.
А утром следующего дня пришли «мыслители». Дорошин до этого уже изучил рокотовские бумажки досконально и теперь знал, как их использовать. Пусть теперь повертится Володька. Куда ему деваться? Умный парень. А вместе им такие дела по плечу.
Не выдержал малость с Рядновым. Ах ты ж, сукин сын. А? Петя Ряднов, бессловесный и исполнительный Петя — и вдруг… Что с людьми похвала делает? Сразу грудь колесом — и он уже гений. Его не тронь, его не обругай. И замечаний ему, пожалуйста, не делай. А то он и фыркнуть может.
И все же терять его было неразумно. Работник отличный. Работоспособность как у вола. И без претензий особых. Даже квартиру перестал просить. Гордый. Ничего, подождет еще. Холостой. Другие вон семейные в общежитии живут. Или на частных квартирах. Ах ты ж, беда… Погряз он во всех этих суетных вещах. Дело бы делать. Съездить бы в Москву, добиться быстрейшего одобрения проекта. И запускать на площадку бульдозеры. С управляющим «Рудстроя» оговорено. Карьер у него в плане. Потом котлован водой зальет… Земснаряд пустить. А там дренажная система войдет в строй… И первый взрыв… Дожить бы до руды новой… В руках бы ее помять, между пальцев. Почувствовать, что карьер живет, и тогда шут с ним, можно и на пенсию. Глотать капли и лекарства, вести душеспасительные беседы с доктором Косолаповым, в саду возиться с Олей, орошать и опрыскивать деревья. Приятное занятие. Только до этого — карьер… Настоящий, такой, чтоб под занавес не стыдно было. А может, рокотовский карьер быстрее пошел бы? Ведь там не переселять людей. А для них еще нужно жилье строить. Нет, это был бы карьер Рокотова. Об этом все знают. Это был бы не его, не дорошинский карьер. А ему нужен свой, выношенный в замыслах от начала до конца, чтобы стать на краю обрыва, а внизу перед тобой чтоб змейками дальними ползли поезда с рудой и экскаваторы-гиганты казались спичечными коробками. И чтоб богатая руда потоками. Ах, как хорошо…