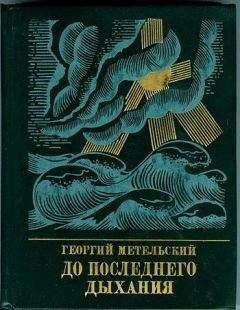мне предстояло жить. Комната, очевидно, пустовала, и на всем, что в ней было, лежала едва уловимая печать ненужности. Ненужной казалась старинная софа, на которую никто, должно быть, не садился, громоздкий шкаф с заржавелым замком и неудобные стулья с высокими резными спинками.
— Павлуша вернется с озера, вам тут и приберет… Павлуша — это правнучка моя, — пояснила Анна Михайловна и, заметив мое недоумение, добавила: — Павла ее звать.
Мягкими, короткими шажками она ушла куда-то в глубину полутемного дома, оставив меня одного. Я огляделся. На стене, куда падал луч солнца, висел написанный маслом портрет сурового старика с пышными седыми усами запорожца, густыми белыми бровями и потушенным взглядом. Глаз не было видно, их закрывали полуопущенные веки, напомнившие мне слепцов на базаре, и я подумал, что нарисованный художником человек, наверное, тоже был незрячим.
Мои размышления нарушила появившаяся в комнате девушка лет восемнадцати, стройная, босая, с наспех заплетенной косой, с которой на белый некрашеный пол стекали капли воды.
— Так это вы к нам приехали? — спросила она, с любопытством оглядывая меня бойкими, веселыми глазами.
Я заметил, что нос у нее был задорно приподнят кверху, а брови круто выгнуты, и это придавало ей лукавый и озорной вид.
— А вы, наверное, и есть Павлуша? — ответил я вопросом на вопрос.
— Ась? — девушка сделала уже знакомый мне жест — приложила к уху сложенную ковшиком ладонь и рассмеялась. — Это меня бабуся так зовет… Да вы садитесь, небось, устали с дороги. Сейчас чай будем пить.
За самоваром мы сидели вчетвером: Анна Михайловна, я, Павла и ее дед, сын Анны Михайловны, лысый, вышедший на пенсию бухгалтер, по имени Ксенофонт Петрович. Он пришел точно к чаю, поставил в сарай удочки, отдал кошке несколько пескарей и, расчесав усы роговой гребенкой, пророкотал басом:
— А у нас, оказывается, гость! Это отлично.
Узнав, что я назначен в село учителем химии, он не преминул сообщить, что школа у них новая, большая («Может, видели на бугре»), а вот квартир для педагогов нету: районо строит дом, да никак не кончит.
— Техник она у нас, строитель, — добродушно усмехнувшись, сказал Ксенофонт Петрович и выразительно взглянул на внучку. — Вот и строит, не бей лежачего…
— Да я ж первый месяц работаю! — воскликнула Павла. — А к сентябрю все равно сдадим!
До сентября еще оставалось больше двух месяцев, и это время мне предстояло провести в тихом флигеле. Впрочем, я об этом не жалел. После трудных государственных экзаменов мне хотелось отдохнуть где-нибудь в тиши, почитать, побродить по лесам, а в этом отношении село, куда я приехал, не оставляло желать ничего лучшего.
В тот же день я представился директору школы, посмотрел классы и химическую лабораторию, где мне предстояло проводить уроки, и, напутствуемый добрыми пожеланиями, возвратился в свои пенаты.
И снова, как и утром, мне бросился в глаза портрет старика с пышными усами запорожца. В доме висели еще картины, несколько копий, а может быть, и оригиналов незнакомых мне мастеров, но странное дело, взгляд невольно останавливался именно на этом старике с потупленными глазами. Я не выдержал и спросил о нем Павлу.
— Это друг моей бабуси, — сказала она. — Когда бабуся была еще совсем молоденькая, он в нее влюбился до крайности и романсы ей сочинял.
— Он был композитором, что ли?
— Ага… Рубец Александр Иванович, разве не слышали?
Рубец… Где-то в глубине памяти у меня сохранилось это имя. Дело в том, что родом я был из этих мест, и в детстве в нашей семье вспоминали иногда о слепом музыканте, который учил пению в хоре мою бабушку. Говорили, будто музыкант ослеп в Париже. После операции не выдержал режима, раньше срока снял повязку с глаз, чтобы пойти в концерт знаменитой певицы, и ослеп. С той поры, он окончательно поселился в нашем городишке и содержал там на свои средства музыкальную школу.
— Про него в энциклопедиях даже написано, — сообщила Павла, — и в старой брокгаузовской и в Большой советской.
Это уже становилось интересным.
В тот же вечер, за самоваром, я попросил Анну Михайловну рассказать что-либо о Рубце. Солнце садилось за селом в дубовые леса, и розовый отблеск заката спокойно лежал на выцветших обоях и белых с золотыми ободками чашках, которые вынимались лишь в торжественных случаях.
— Правда, голубок, чистая правда, — сказала Анна Михайловна, просияв. — Ухаживал за мною и романсы жестокие сочинял. — Она за улыбалась, и ее сморщенное лицо стало еще морщинистее и меньше. — Только о ту пору меня уже сосватали и ухаживания его я принять не могла.
— А когда это было, Анна Михайловна?
— Когда, голубочек? Дай бог память… — Она задумалась. — Да почитай годков семьдесят пять тому, коли не больше… — Окна в сад были распахнуты настежь, и красные граммофончики мальв настороженно заглядывали в комнату, словно их тоже интересовала судьба слепого композитора. — Ты не думай, что я тогда такая, как сейчас, была. — Она поднялась и маленькими шажками поплыла в свою комнату. — Вот какая я была о ту пору.
Анна Михайловна положила на стол наклеенную на паспарту фотографию, исполненную в тоне сепии. На меня смотрели незнакомые люди — женщины в пышных платьях с тюрнюрами и шлейфами и усатые мужчины в котелках, небрежно державшие в руках стеки. Я напряженно искал на карточке Анну Михайловну, но семьдесят с лишним лет сделали свое недоброе дело. Наконец какое-то, едва уловимое, сходство подсказало мне, что юное существо в белом платьице, почтительно стоящее с краю, и есть Анна Михайловна.
— Вы? — я дотронулся до карточки.
— Я, голубок, я… Аннушкой меня тогда все звали… А вот и Сашенька, не узнаете?
Рубец, молодой, еще зрячий, с черными пышными усами, стоял возле Анны Михайловны тоже чуть поодаль от нарядной компании, — семьи местного помещика Клашевского. Помещик был богат, ему принадлежал дворец, построенный по плану знаменитого Гваренги, огромный сад, дубовые леса вокруг и этот флигель, где мы пили чай. Дворец крестьяне спалили в семнадцатом году, а во флигельке поселилась учительница Троицкая, много лет учившая детей Клашевского.
Рубец тоже занимался с помещичьими детьми. Был в ту пору он уже известен, имел связи в Петербурге, и Клашевские присылали за ним карету с фамильными вензелями на боках.
На зиму он уезжал в Петербург, в консерваторию, и оттуда слал Анне Михайловне надушенные письма и те самые «жестокие» романсы, о которых она говорила. В углу, на первой странице нот, стояло посвящение: «Аннушке».
— А где же эти романсы, Анна Михайловна? — спросил я с интересом.
Старушка сокрушенно покачала головой.
— И романсы были, и