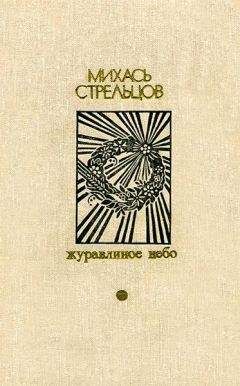Да, Богданович был прав. Ему нельзя отказать в широте и глубине взгляда на литературу. Временное, повседневное не заслоняло главного. Литература для него значила слишком много, вот почему он связывал общественную функцию литературы с самоопределением искусства как специфического рода человеческой деятельности. Литературе, которой за десятки лет надо было пройти путь, какой другие, более развитые литературы проходили в лучшем случае за столетие, ничто не могло повредить так, как односторонность художественных или общественных увлечений и симпатий. «У нас каждое направление может иметь свою ценность» — вот что говорит Богданович. Именно так, в связи со своеобразными задачами белорусской литературы, вытекающими из ее молодости, мы можем правильно понять Богдановича. При этом нам не надо бояться, что Богданович для кого-нибудь будет выглядеть чуть ли не поборником «чистого искусства», которым он, конечно, никогда не был. Понять своеобразие позиции Богдановича — наш долг. В конце концов, это и мера нашего уважения к нему. Вот почему нам не надо «прихорашивать» Богдановича, опасаясь, что его позиции поймут не так, как следует. О. Лойка, например, анализируя оценку поэтом сборника Купалы «Гусляр», останавливается на том месте, где Богданович пишет, что сборник «не выделяется особенной глубиной и необыкновенностью», что в нем часто перепеваются «старые общественные», «горьковские мотивы», чувствуются «отзвуки так называемого модернизма», и приходит к выводу:
«Строгий критик, он требовал не перепевов уже сыгравших свою общественную роль песен, а взлета новых, еще неслыханных, а потому еще более общественно значимых и наступательных».
«Защищая» Богдановича, О. Лойка словно не хочет понять нарочитого акцента его мысли. Он хочет
«защитить» и Богдановича, и Купалу одновременно, отмечая, что «вопрос со „старыми мотивами“ был значительно сложней, чем это показал в своем обзоре Богданович».
Хорошо, допустим, что это так, но и вопрос с Богдановичем значительно сложней, чем это показал О. Лойка. Богданович на самом деле не против «новых» общественных мотивов, но одних общественных мотивов ему, критику, мало. Когда он пишет о «смелости», присущей лучшим стихам сборника, то имеет в виду не только общественную смелость, но и смелость художественную, оригинальную разработку новых тем и мотивов. «Уже и красота природы и красота любви нашли себе место в его произведениях» — вот за что, как известно, хвалит Богданович Купалу в другом своем обзоре, рассматривая следующий сборник поэта — «Шляхам жыцця» («Дорогой жизни»). Богданович, как мы видим, последователен. Не замечать этого, не замечать акцента его мысли нельзя. А к чему она, эта мысль, сводится у О. Лойки? Если внимательно прочитать его, проникнуться логикой, получится, будто Богданович требовал какого-то простого подновления старых «общественных мотивов». Устарели они — подавай новые, «еще неслыханные», «еще более общественно значимые, наступательные». А те, «сыгравшие свою общественную роль», — в архив. Может, не то хотел сказать О. Лойка, но получилось именно так, и Богданович у него стал похожим на вульгарно-социологического критика.
Мысль Богдановича — важная мысль, она не потеряла своей значимости и в наши дни. И сегодня мы еще недостаточно заботимся о действенности искусства, о его жизненной полноте; мы забываем, что для искусства нет запрещенных тем, что воспитывает оно не простой иллюстрацией тех или иных мыслей и идей, а своим человековедческим пафосом и, в конце концов, своими поисками красоты, утверждая или отрицая при этом, — все равно.
Литература, несомненно, и воспитывает и учит, но, нам кажется, только тогда, когда остается литературой в органическом значении этого слова. Назначение литературы прежде всего — исследовать жизнь, исследовать сообразно своим, заложенным в ней законам.
Богданович в самом начале творческого пути понимал это. Он хотел, чтоб это поняли и другие. Он очень близко принимал к сердцу все проблемы нашей молодой литературы, очень хотел, чтоб с наибольшей полнотой для нации, для «всемирной культуры» шла она своим ускоренным, беспримерным шагом.
Вот почему Богданович учится сам и учит других. Творит и анализирует. Анализирует и творит. И постоянно держит руку на пульсе литературного процесса.
Стихи, которые впервые по-настоящему обратили внимание на Богдановича как поэта, относятся к мифологическому циклу «В зачарованном царстве». Реакция на эти ранние произведения была довольно противоречивой — от принципиального их неприятия (тогда и было впервые высказано обвинение в «декадентстве») до безоговорочного, даже апологетического признания — понятно, в самой своей направленности полемического, противопоставленного другим, тоже крайним оценкам. Как ни странно, но и сегодня, желая отвести от поэта обвинения в декадентстве, мы ломаем свои критические копья именно над этими стихами, как бы повторяя ошибку тех первых критиков Богдановича, которым застили глаза эти его стихи и которым не хватало смелости быть последовательными до конца. Ибо тот, кто упорно хотел видеть в Богдановиче символиста и декадента, мог найти для своих тенденциозных выводов достаточно материала и в позднейших его, так называемых «классических» стихах. Но такова уж сила инерции!
Мы-то знаем, что Богданович никогда не был символистом, если рассматривать символизм не как сумму определенных формальных приемов и тем, а как мировоззрение, систему взглядов на искусство и мир, на человека в его общественной деятельности (последнее как раз символистов принципиально не интересовало). Символизм с самого начала настойчиво стремился утвердить себя не больше и не меньше, как мировоззрение. Валерий Брюсов, один из столпов символизма, писал после революции — уже в то время, когда от символизма остались одни лишь воспоминания:
«Символисты отказывались служить в литературе только практическим целям, хотели найти более широкое обоснование ей и обратились к выражению общих идей, равноценных (как казалось им) не одному какому-либо классу общества, но всему человечеству».
Что же касается формальных завоеваний символизма, то было бы просто неразумно их отрицать; и было бы просто непозволительно тому же Богдановичу не заимствовать кое-что у символистов и не постараться пересадить это на только что вспаханную белорусскую почву. В свое время нам уже доводилось писать, почему Богданович, при некотором внешнем сходстве с символистами, никогда символистом не был, да и быть не мог: у него, в отличие от символистов, была под ногами надежная почва — социальная и национальная, было понимание исторической перспективы, была мысль о служении родной литературе и родному народу.
Ну, а цикл «В зачарованном царстве»? Нужно ли снова повторять, что он не символистский и не декадентский? И не пора ли нам уже пойти немного дальше, взглянуть на него более конкретно?
Справедливо пишет о нашей критике О. Лойка:
«…стихи с мифологическими образами и сравнениями (она) рассматривала не в контексте всего цикла, а вырвав их из него. У Богдановича здесь — поэтизация встречи человека с миром природы, когда она властвовала над ним. Но ведь Богданович, раскрывая тему слияния человека с природой, рядом с этими стихами поставил другие, в которых показал, как человек уже поднялся над природой, почувствовал ее прелесть, сопоставив ее со своим общественным положением, и т. д.»
Наконец-то, наконец-то мы тронулись с места! О. Лойка, думается нам, в основном понял замысел Богдановича, или, точнее говоря, единство замысла. Уточняем потому, что, признавая принципиальную новизну взглядов О. Лойки, мы, однако, не можем согласиться с некоторыми его акцентами. Эти акценты мы легко выявим в приведенной цитате, к сожалению, единственной, которую нам придется использовать, ибо О. Лойка, высказав действительно интересную мысль, почему-то не позаботился о том, чтобы развить ее более конкретно и широко, а сразу же перешел в своем разговоре о Богдановиче к другой теме, хоть и интересной, но с циклом не связанной.
В своем творческом восхождении Богданович удивительно закономерен. Лешие, водяные, змеиные цари — сколько уже всем этим занималась этнография! Но Богданович не этнограф, он поэт. И этнографию он превращает в поэзию, делая закономерный качественный скачок вместе со всей молодой белорусской литературой. Казалось, что тут такого необыкновенного, и непонятно, почему это надо трактовать, как «декадентство», как отклонение от прямого пути? У Богдановича часто бывало так: он идет вместе со всеми, но в то же время или впереди, или немного сбоку. Заявит же он неожиданно в 1915 году, что «белорусских стихов у нас нет, есть только стихи на белорусском языке»! Заявит сразу после своего же признания, что наша литература за несколько десятилетий прошла путь, который так или иначе отразил все блуждания европейской художественной мысли на протяжении целого столетия. Парадокс? Возможно. Но разве парадокс — не одна из форм развития мысли, не одна, наконец, из форм развития и самой литературы?