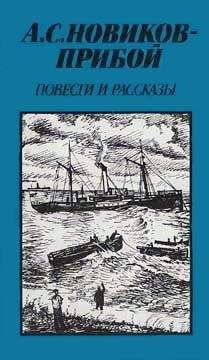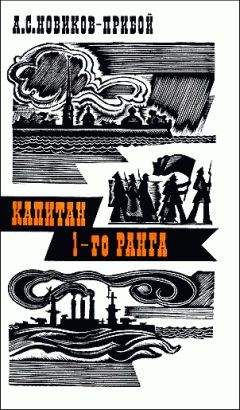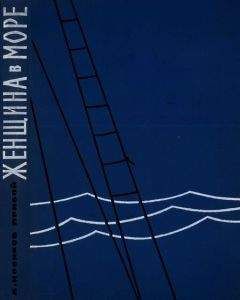Матрена, вздрогнув, опустила глаза, оросившиеся слезами.
— Что ты, Петенька, господь с тобой! — торопливо вступилась за нее свекровь. — Да она тише воды, ниже травы.
— Верно, верно, — ласково подтвердил отец, подталкивая сноху к сыну.
Искривив лицо усмешкой, солдат подмигнул отцу.
— Ну, ладно, я обо всем дознаюсь.
И позволил жене, как всем, трижды поцеловать себя.
Пошли в избу, неся грузный багаж солдата.
Яшке отец не понравился; мальчика испугали бакенбарды, — солдат напомнил ему пристава, который прошлой осенью свел у них за подати коров, после чего все плакали, а Яшке перестали давать молока. На улице он не подошел к отцу, мать в радостях забыла о нем, а когда вошли в избу, он незаметно шмыгнул на полати и, высунув оттуда голову, как зверек, наблюдал за всем, что происходило в избе.
— Где же мой сын? — спохватился солдат, строго оглядываясь.
— Яшек, внучек! — позвала бабушка. — Куда он, пострел, запропал?
— Он тут был, — сказала мать, виновато суетясь.
— Как же ты мне его не представила? — постукивая ладонью по столу, начальнически спрашивал Петр. — Где же он, а?
Из сеней чей-то голос предательски сказал:
— На полатях!
Мальчика пришлось стащить насильно. Он сопел и отбивался.
А когда все-таки его поставили перед отцом, — опустил упрямо голову, не желая взглянуть ему в лицо.
— Ты чего же не глядишь на меня? — спросил отец.
Яшка еще ниже склонил голову, засунул в рот палец.
— Какой ты, брат, неуч, — сказал солдат, наклоняясь и поднимая сына, чтобы поцеловать его.
— Не бойся, Яшек, — ободрял дедушка. — Видимость у тебя, Петруха… внушающая, вот он и оробел…
Яшка вдруг заплакал и, вырываясь из рук отца, начал бить его руками и ногами.
— Э, паршивец! — Петр неосторожно толкнул сына, мальчик упал на пол, завизжал, как поросенок, и, вскочив, стрелой вылетел на улицу.
— Хорошо обучила, нечего сказать! — укорил солдат жену, метнув на нее сердитый взгляд.
— Вишь, испужался, — робко оправдывалась Матрена. — А то он страсть какой ласковый! Подожди, Петенька, он пообыкнет…
— Для кого Петенька, а для тебя Петр Захарыч! — оборвал ее муж.
Жена, ежась, потупилась, а мать вздохнула:
— Ох-хо-хо!
— Зря это ты, Петр, — заметил Захар, укоризненно качая головой. — Это, брат, зря! Жена у тебя — глава богу — всем на зависть, а ты… ты погоди…
В избе воцарилась неловкая тишина. Лица стали пасмурными.
Вошли соседи и, здороваясь с солдатом, нарушили яростное молчание. В избе снова все ожили, завертелись, заговорили. Бабы накрывали на стол, Федор принес четверть водки, а Петр, раскрыв чемодан, начал раздавать подарки. Отцу и брату досталось по паре сапог; матери — большая теплая шаль; снохе — красный с белыми горошками платок. Вынимая вещи из чемодана, солдат важно надувал щеки, и бакенбарды его шевелились.
— А тебе после дам, — сказал он жене.
— Спасибо, Петень… Петр Захарыч, — ответила тихо она.
Раздав подарки, Петр зачем-то вытер руки о штаны, достал из чемодана фунтов пять вареной колбасы, кусок сыра, бутылку малороссийской запеканки.
Мужики, бабы и ребятишки смотрели на него, разинув рты. Все были окончательно поражены, когда солдат поставил на стол большой новый самовар, блестевший, как солнце. В селе чай пили всего лишь четыре семьи. А тут вдруг, шутка сказать, и Колдобины тоже будут чай пить!
— Ну-ну! — послышалось в сенях. — Вот оно как! Ушиб…
Солдат торжествовал.
— Не надо бы эту штуку-то, — сказал ему отец, кивнув головой на самовар.
— Ах, папаша, ну для чего вы так говорите? Я теперича без чаю не могу обойтись!
— Может, оно и так, да только… того…
Старик вздохнул и поскоблил затылок.
— А что такое?
— Недоимка есть, ешь ее мухи! Вот что. Да и хлебца хватит только до масленицы. Нужды много…
— Ничего, папаша, у нас хватит! — Солдат похлопал себя по карману.
— У нас весьма хватит! — повторил он.
Люди зашушукались, завздыхали — в иных глазах загорелась зависть, а иные оттенились грустью и печалью.
III
Вечером изба Колдобиных была переполнена людьми, в открытых окнах торчали лохматые головы. Всем хотелось посмотреть на богатого солдата.
Он сидел в переднем углу. С правой стороны его отец с матерью таяли улыбками, с левой — тесть, и дальше вокруг стола — остальные родственники. Дошибали вторую четверть, уже слышались пьяные голоса, говорили все разом, перебивая друг друга, никого не слушали. И только, когда раздавался важный голос солдата, некоторые из уважения к нему замолкали.
— Вы то поймите, православные, ведь я за рыжего мерина сорок целковых заплатил, — ерзая по лавке, печально рассказывал тесть солдата, морща изношенное лицо, словно собираясь заплакать. — Можно сказать, всю деньгу убухал. А он, дьявол, слепой оказался! Как это, а?
— Вот пустозвонный балабан! — перебил его кто-то, — Сто раз слыхали это.
— Ублажил ты меня, Петр, ах, как ублажил! — бормотал Федор, хлопая солдата по плечу. — Как хватил я ее, красненькую-то, так, понимаешь ли, в самые кости ударила! Ей-богу!
— Запеканка-то? — осведомился сосед.
— Она!
— Да-а.
Некоторые из гостей пробовали сыр, но, пожевав, сплевывали в руку и незаметно выбрасывали под стол, тщательно вытирая руки о платье.
— А что же сыр никто не ест? — спросил солдат.
— Да без привычки не по нутру он нам, — объяснил один из гостей.
— На мыло больно смахивает, притом же воняет, — добавил другой, более смелый.
— Эх, вы, мужичье, сами вы воняете! — презрительно качая головой, усмехнулся Петр и, отломив кусок сыра, начал есть его, как редьку.
Хмелея, он куражился все больше и больше, желая удивить публику «благородными» манерами, усвоенными на службе, и становился все грубее. Всем было смешно, когда он то вдруг надувался, как индюк, то рвал и крутил усы с такой силой, что верхняя губа оттопыривалась в ту или другую сторону, то, нахмурившись, прикладывал указательный палец ко лбу, как будто что-то соображая. По временам голова его закидывалась назад, и глаза сурово и пронзительно останавливались на людях, точно он производил инспекторский смотр.
— Душно у вас! — нюхая воздух и морща нос, заявил он и, достав из кармана носовой платок, начал им обмахиваться.
— Окна открыты, — заметил отец, который хоть и пьян был, но все время искоса поглядывал на сына.
В публике шептались:
— Для ча это он так?
— Этак-то попадья в жару делает…
Солдат привстал и, скосив глаза, брезгливо осмотрел людей, толпившихся в избе.
— Э-э-э-э, — тянул он, как ротный командир, когда тот хотел вызвать из фронта какого-нибудь солдата.
— Вот ты, трегубый, поди-ка сюда, — произнес наконец он, подзывая молодого парня с рассеченной губой.
— Меня, что ли? — приблизившись, спросил тот.
— Да, да, братец. Достань-ка мне э-э-э… сногсшибательной микстуры да крендельков э-э-э… полпудика…
— Вот это дело! — восторгались мужики.
— Довольно бы, сынок, — вступилась мать.
— Не перечь мне, мамаша! Пусть знают, кто такой Петр Захарыч и все прочее.
Забрав деньги, парень мигом слетал к шинкарю.
Водку начали подносить всем без разбора. Пили мужики, бабы и ребятишки, закусывали кренделями. Шум усиливался, даже на улице под окнами орали песни, плясали.
Солдат тяжело вылез из-за стола и, размахивая руками, громко заявил:
— Петр Захарыч докажет вам, почем сотня гребешков и все прочее!..
— Вот так воин! — раздавались голоса. — Этот сокрушит.
— Федор, откроем мелочную лавочку, а? — расставив ноги и взяв фертом руки, обратился Петр к брату.
— Жарь, Петро! — отозвался тот. — Жамки будем есть! — Эх, разлюли малина!..
— Неужто можешь? — спросили мужики.
— Я-то! Да я все ваше село куплю — и с вами и нашими потрохами! Вы думаете — теперя я, как вы, навозники?
Он достал из бокового кармана толстый новенький бумажник и начал вытаскивать из него одну за другой радужные кредитки.
— Вот они, настоящие царские!
Все так и ахнули от удивления, а у многих даже дух захватило.
Послышались восклицания:
— Деньжищ-то сколько, мать ты моя честная!
— Пять, гляди, сотельных-то!
— Да еще, кажись, есть!
За окнами было слышно блеяние овец и мычание коров: поднимая дорожную пыль, возвращалось с поля стадо. Солнце утопало в огненной пучине облаков. На деревьях и холмах за селом горел кровавый отблеск заката. Стекла окон зажглись пламенем.
Петр, качаясь, вышел на улицу и, оглядев толпу, спросил:
— Отвечай, кто хочет получить трешницу?
Люди с недоумением смотрели на него, отодвигаясь подальше; кто-то негромко спросил:
— За что же это такая милость?