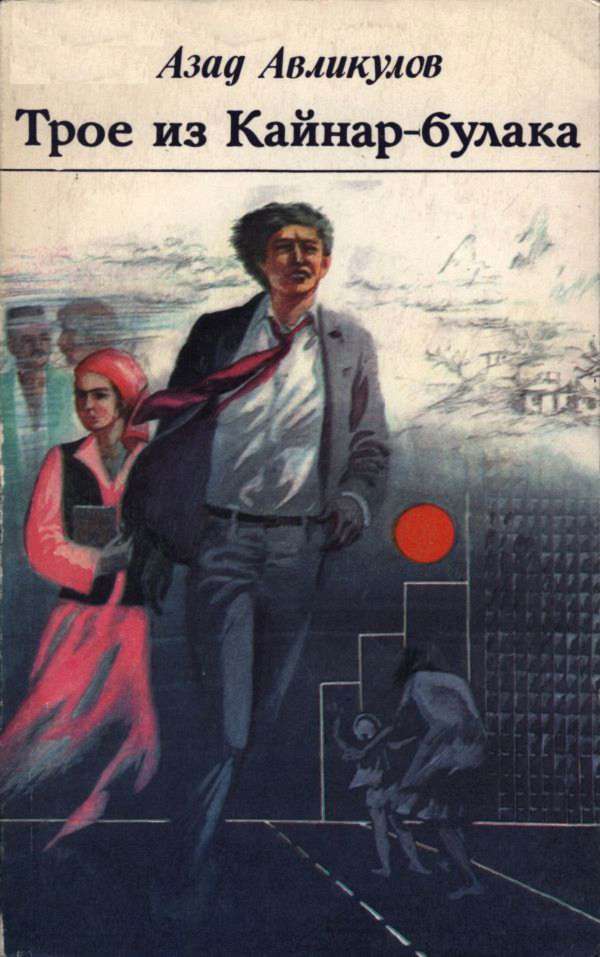сам начнет метаться в своем логове, так что не считай пельмени сырыми, брат. Ильхом никогда не будет рабом!
— Послушай, ты, — крикнул Артык, — здесь, хоть я и твой брат, но прежде всего — представитель германского командования, и твои рассуждения принимаю как личную обиду. Так что не зарывайся!
— Мне все равно, кого ты представляешь! На большее, чем убить меня, ты не способен. А смерти я не боюсь.
— За двадцать лет большевики так вправили тебе мозги, брат, — бросил Артык, — что я удивляюсь, да сын ли Сиддык-бая передо мной?!
— То же сделали с вашими мозгами фашисты, — сказал Пулат.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я не торгую родиной.
— И я не собираюсь это делать. Кончится война, и вся Средняя Азия объединится под знаменем Турана.
— Опять сырые пельмени, ака. Как вы любите все сырое, удивительно. — Пулат решил поиздеваться над братом.
— Не надо, — сказал Артык, поняв насмешку, — бравирование здесь ни к чему… Лучше подумаем, как все-таки тебе вернуться домой целым. Армии рейха ты не нужен.
— Вы лжете, ака. Я нужен пропагандистам рейха. Потому они приказали схватить меня живым.
— Да замолчи ты, дурак, — не сдержался Артык и ударил Пулата по лицу. Но спохватился и добавил смущенно: — Прости. У нас разные убеждения, и с этим, наверное, теперь ничего нельзя сделать. Так угодно было судьбе — она нас сделала смертельными врагами. Война не скоро закончится, и мой долг — спасти тебя!
— Война идет к концу, — сказал Пулат, сплюнув кровь, — конечно, нежелательному для вас, но…
— Об этом нет смысла спорить, — тоном, не терпящим возражения, произнес Артык, — я знаю больше тебя. Сейчас германское командование выравнивает линию фронта, а скоро… как только новое оружие… Зачем все это тебе? — Он помолчал, разглядывая Пулата сквозь дым сигары. — Как дома-то?
— Последнее письмо оттуда у вас, — .сказал Пулат, — там обо всем написано.
— Ну, как, имею я право спасти твою жизнь?
— Какой же ценой ты собираешься это сделать? — Пулату надоела эта встреча. Он хотел скорей вырваться из смрада этого разговора.
— Почти даром. Я определяю тебя в Туркестанский легион. Будешь служить. Одевают их хорошо, кормят, как на убой, так что до конца войны, каким бы ни был ее исход, проживешь припеваючи.
— Ползающая по ноге, ака, вползет и на шею, — сказал Пулат. — Сегодня я вступлю в ваш легион, завтра вы меня заставите выступить по радио, а послезавтра — взять в руки фашистскую снайперскую винтовку. Предательство похоже на горный водопад. Сначала на одну ступень опустится, потом — на вторую, а под конец расколется тысячами брызг о гранитные глыбы на дне. Я присягал на верность своей родине!
— Подумаешь, присягал, — передразнил его Артык, — сейчас самое важное сохранить жизнь!
— Кто отчизну потеряет, до окончанья дней рыдает, — вспомнил Пулат пословицу. — Извините, немецкая форма не по моим плечам.
— Она не немецкая, а наша национальная.
— Тогда тем более.
— Значит, нет?
— Нет.
— Что ж, даю тебе некоторое время, подумай, — Артык нажал кнопку и вошел конвоир…
— Сюда, — сказал солдат, показав дверь направо.
Пулат вошел. В комнате, чуть поменьше, чем кабинет коменданта, стоял длинный стол, уставленный разной едой. Появился переводчик, и конвоир оставил комнату. От запаха жареного и вареного, от вида пышного и белого, как снег, хлеба, у Пулата закружилась голова — голод так остро дал о себе знать, что, казалось, сядь он сейчас за стол, все бы подмел до крошки.
— Начальник распорядился хорошенько накормить тебя, — сказал переводчик. — Садись и ешь.
Мысль, что на столе все — вражеское, начисто отбила аппетит. Пулат смотрел в окно, за которым медленно угасал день.
— Напрасно артачишься, парень, — сказал переводчик дружелюбно. — Еда тут ни при чем. Ты можешь обижаться на штурмфюрера, на меня, на лагерь, ну, а на хлеб…
— Спасибо, я сыт, — сказал Пулат.
— Что ты там высматриваешь? — спросил переводчик.
— Ничего. День красивый. Только вот этот черный дым все портит.
— Это не дым, солдат, души умерших. Видишь белое здание рядом с трубой? Это баня. Ежедневно сюда приходят помыться пятьдесят человек и уже через трубу спешат на свидание с аллахом.
— Это мне известно, — сказал Пулат.
— Ну, если так, то и подумай, ведь баня может выпасть и тебе.
— Коли мне суждено сгореть, я не утону. Я пошел.
— Возьми хоть хлеба кусок!
— Я сыт…
Его водили к коменданту целую неделю. И каждый день повторялось одно и то же. Иногда ему казалось, что Артык пытается сказать что-то очень важное, но не решается. «Боится, — думал он, глядя на него, — что кто-нибудь подслушает и передаст начальству. Бедный Артык-ака! Лучше на родине быть чабаном, чем на чужбине султаном. А вы… не чабан и не султан. Слуга!»
— Ну, ладно, — сказал Артык сегодня, как всегда, сев напротив и дымя сигарой, — пора кончать эту игру.
Теперь он перешел к обычным методам эсэсовцев — избиениям и пыткам. Правда, делал он это руками солдат, но для Пулата это не имело значения. Каждый раз, придя в себя после ведра холодной воды, он отвечал на очередной вопрос Артыка одним:
— Я не предатель!
— Идет война миров…
— И мой мир победит, — теперь уже Пулат перебил его. — Потому что за ним — правда.
— Но ты не увидишь эту победу!
— Дети увидят, внуки.
Артык устало опустился на стул. Нажал на кнопку. Вошел конвоир, и он кивнул ему. Пулат встал, вернее, его поднял солдат.
— С другого я бы три шкуры спустил, — сказал Артык, — а с тобой обошелся мягко.
— Это дело вы всегда выполняли лучше других, — произнес Пулат.
— Кривое дерево прямо не растет. Ты всегда был кривым, таким и остался, — равнодушно сказал Артык. Мысленно он уже с ним простился. — Мне жаль тебя.
— Не нам судить, кто из нас кривой, — сказал Пулат, — придет время, и люди скажут.
— Но ты не услышишь этих слов. Тебя уже не будет!