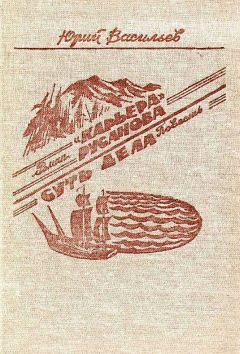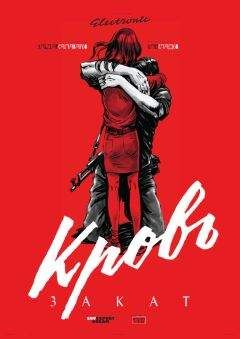Они уютно пировали на кухне.
— Машина у тебя своя или казенная? — спросил Черепанов.
— Казенная. Кто же на своей в командировки ездит? Да еще по вашим дорогам. Еле добрались. Залетели в кювет по самые уши, думал — трактор вызывать придется. Смотрю, подъезжает какой-то мужик на этом… на мотороллере, что ли. Смех один: такой, понимаешь, зеленый кузнечик, гусеницы на нем… Представляешь, дернул нас и — вытащил! Шофер мой до сих пор икает от удивления!
— Это тебя Гусев вытащил, — сказал Черепанов.
— Какой еще Гусев?
— Два года назад ты писал о его универсальном цанговом патроне, писал, что это — всплеск творческой мысли, чуть ли не революция в металлообработке. Помнишь? Ты еще тогда негодовал: почему никто не схватился за его изобретение обеими руками, почему, если дело касается нового способа выращивания огурцов на подоконнике, люди засыпают редакцию письмами, а тут — хоть бы один руководитель почесался.
— Было такое дело. Как же — Гусев… Ну да, точно Гусев. Ты знаешь, нас потом поправили. Пришло письмо, авторитетные товарищи заявляли, что… Слушай, я точно не помню, какие были доводы, но, по-моему, убедительные.
— И ты утерся, да? Поздравляю! Ох, Серафим!.. Когда-то Гусев демонстрировал в Москве музыкальный синтезатор — люди шли косяками, говорили: музыка будущего! Записи делали на память, даже брошюра о нем вышла. Потом нашлись авторитетные люди: «Кто же музыку синтезирует? Профанация!» Теперь — синтезатор в каждом клубе стоит, только это уже не его синтезатор, чей-то другой. С опозданием, кстати, на несколько лет. А тоже ведь, наверное, доводы были убедительные, теперь, правда, уже никто не помнит — какие.
— Сережа, уволь! — взмолился Можаев. — Давай не будем! Я газетными делами сыт по горло, думал, хоть у тебя отдохну.
— Нет уж погоди, я скажу. Я коротко. Налицо — головотяпство со взломом, как выражались классики. Почему, когда простаивает завод, вы бьете во все колокола: «Тревога!» — а когда простаивает, варварски используется талантливый человек, вы готовы за что угодно ухватиться: «Прожектерство! Невежество!» У Гусева шестнадцать авторских свидетельств! Изобрел кассетный держатель, так из-за него токари передрались, словно это запчасти для «Жигуля», но внедрили его, и то частично, совсем на другом заводе. Он разработал новую, неожиданную конструкцию пылеуловителя, ему говорят: «Зачем? Это не наш профиль!» Да мало ли… В Москве, на ВДНХ он — король, его таскают по пресс-конференциям, берут интервью; у него на областной выставке свой персональный стенд, а дома, на родном заводе он — неудобный человек, не более того. Что только не делали, чтобы его утихомирить! Сейчас, правда, новый главный инженер пришел, некто Балакирев, похоже, с головой мужик, но посмотрим еще…
— Видишь ли, Сережа. Ты, я понимаю, человек пристрастный, но согласись, что есть и впрямь неудобные люди, трудные… как бы это сказать?.. в технологическом использовании, что ли.
— Хорошо выразился! Браво! Помнишь, в давние времена ты говорил мне, что литература — это образ жизни и прочее. Я тогда подумал: «Индюк надутый!» А ведь ты прав! Любое творчество неуправляемо, и Гусев не по своей воле неудобный человек, он тоже во власти присущего ему типа обмена веществ. Он — неожиданный человек! Недавно, например, сделал инвалидную коляску — на всемирную выставку послать не стыдно. Штучная работа. В серию, конечно, не пойдет, сложновата, но ему теперь все равно. Он уже заранее слышит: «Не наш профиль!»
— А зачем ему понадобилось именно коляску делать?
— Ну так, одному человеку. Я его не знаю, слышал только, что он вроде ребенка спас, без ноги остался.
— Погоди… А как его фамилия, не помнишь?
— Не помню. Можешь у Гусева спросить, если тебе любопытно. Заодно — побеседуете. Глядишь, появятся какие-нибудь мысли.
— Дался тебе этот Гусев! Вы с ним друзья, что ли?
— Ай, Серафим! Друзья, не друзья… Мы с ним вместе работаем. Кроме того, он мне нужен. Лично мне.
— Вот даже как! — Можаев рассмеялся. — Собираешься эксплуатировать его, как золотую жилу?
— Примитивно мыслишь, Серафим Николаевич. Грубо выражаешься. В настоящее время Гусев — всего лишь бесхозная лампа Аладдина, волшебный сосуд, которым, по недомыслию, забивают гвозди. И мне больно на это смотреть. Пусть он неуправляем, пусть он — человек минуты, но я-то, человек нормальный и здравомыслящий, я должен навести порядок в нашем хозяйстве или не должен?
— Ну-ну…
— Вот тебе и «ну-ну». Встряхнись, Серафим! Не узнаю — ты это или не ты? Ишь как вцепился в куропатку, как будто она — смысл твоей жизни! Смысл твоей жизни — нащупывать болевые точки, от которых зависит здоровье общества. Понял? Ты должен их нащупать и обозначить, а мы будем заниматься иглоукалыванием!
— Вот и напиши статью, — вдруг серьезно сказал Можаев. — Сам напиши. Должно получиться.
— Нет уж, уволь. Только письма любимой девушке.
— А есть на примете?
— Жуй птицу и не задавай глупых вопросов… Все! Включаю телевизор, будем развлекаться. Кстати, сейчас передача «Это вы можете», знаешь такую? Очень люблю. Хоть и стыдно смотреть, как одиночки-изобретатели утирают нос проектным институтам.
— Ну, давай, — согласился Можаев. — Посмотрим на умельцев-надомников… А вытащил Гусев меня из кювета и вправду здорово!..
Можаев разыскал Липягина на реке: тот сидел возле лунки с короткой удочкой и ловил навагу. Рыба лежала горкой, покрытая, словно воском, намерзшей шугой.
— Здравствуйте, Иван Алексеевич, — сказал Можаев, присаживаясь рядом на корточки. — Не узнаете меня?
— Что-то не очень припоминаю. — Липягин внимательно оглядел Можаева. — Лицо вроде знакомое, а вот кто…
— Я у вас в больнице был, в Кедон приезжал, когда вам еще протез не могли подобрать. Вспоминаете?
— Да-да, конечно… Здравствуйте! Как вы меня тут отыскали?
— Это моя профессия.
— Понимаю… Удочку дать? Клев нынче замечательный, видите — прямо сама из лунки сигает.
— Пустое занятие, только рыбу распугаю.
— Вы ко мне по делу?
— Не то чтобы очень, но поговорить хотелось бы. Как-никак, старые знакомые.
— Может, не стоит? Если прошлое ворошить, то к чему? И так уже, знаете, получается, что я вроде как урожай собираю, а мне — ничего не надо.
— Помнится, вы хотели купить «Запорожец» с ручным управлением. Не приобрели еще? Вам в первую очередь должны выделить.
— Никто мне ничего не должен, — строптиво сказал Липягин. — О чем нам с вами беседовать? Что было, то прошло. Интереса больше не представляю. Пенсионер по инвалидности. С ребятишками в Доме пионеров вожусь, так это для своего удовольствия.
— Газета получила письмо от строителей БАМа, — сказал Можаев. — Они хотят зачислить вас в свою бригаду.
— Это еще с какой стати?
— Иван Алексеевич, скромность, конечно, хорошая вещь, но ведь и людей надо понять. Молодежь всегда тянется к подвигу, а работают они как раз в тех местах, где вы совершили свой героический поступок.
— Да будет вам! — Липягин закашлялся: с реки потянуло тяжелым, сырым ветром. — Незачем из меня страдальца делать.
— Почему же — страдальца?
— И героя тоже незачем лепить… Хотя вы тут ни при чем. Извините, глупости болтаю… О! Давайте мы с вами вот о чем поговорим. Мне тут один человек инвалидную коляску сделал, думаю, вам будет интересно, вон сколько еще людей нуждается в помощи, да не каждому так везет, как мне. Вы обязательно должны написать о Гусеве.
— Что-то я на этого Гусева на каждом шагу натыкаюсь, — усмехнулся Можаев.
— Это в каком же смысле?
— Да так… Хорошая, говорите, коляска?
— Не то слово! Идемте покажу, вон она на берегу стоит.
— А домой не пригласите?
— Можно и домой, — без особой охоты сказал Липягин. — Отчего же… Сейчас соберем рыбку и пойдем.
Можаев пробыл у него недолго, наскоро попил чаю, записал кое-что и откланялся.
Липягин его не задерживал. Он вышел проводить гостя, долго смотрел вслед удалявшейся фигуре и думал, что если бы тогда журналист не пришел к нему в больницу, если бы не болтливые медсестры, готовые на весь свет растрезвонить о геройстве скромного работяги, если бы… Что тогда? Он что — раскаивается? Сожалеет, испытывает угрызения совести? Ведь если он и сделал что-то не так, то хуже от этого только ему самому, и только он сам вправе судить себя или не судить, другим — что до него?
Липягин вернулся домой и затопил печь.
Всякий раз в минуты душевной неустроенности его, как дикаря, тянуло к огню. Он укрылся одеялом и стал кочергой шевелить поленья. Скоро осиновые чурки осядут, расколовшись на медные угли, и можно будет, глядя на синие пляшущие языки пламени, не думать, что обратный счет времени уже начался, ничего не изменишь, колесики застучали, приближая неотвратимую встречу с прошлым. Он не хотел этой встречи. Зачем снова бежать по дощатому перрону, помнить издевательски раскачивающийся фонарь на последнем вагоне; зачем, щурясь от солнца, смотреть, как шлепает по воде большое пароходное колесо и веселые мужики, собравшись на корме, пьют теплый самогон, разламывая тугие, с изморозью на изломе помидоры, вкусно чавкают, сорят крошками хлеба, приманивая сшибающихся грудью чаек… Ослепительно жарким был день! Медные поручни полыхали таким нестерпимым блеском, что ему и сейчас хотелось сомкнуть веки и не смотреть на проплывающие мимо зеленые берега, окаймленные глинистой отмелью, но не смотреть было нельзя, колесики закрутились в обратную сторону. Куда денешься…