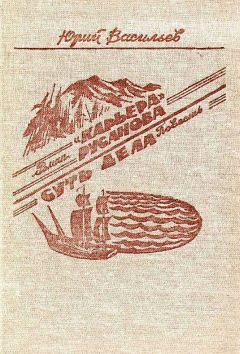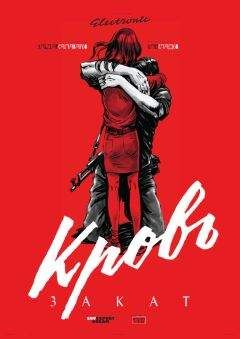— Ты у меня здесь не геолог, ты у меня на побегушках! — оборвал его Коробов. — Понял?
— Вон как? — Липягин поднялся. — Тогда и говорить не о чем.
— Погоди, сядь… Все мы горячие. Ты мне скажи, Ваня, по-человечески скажи: что теперь делать в этом паскудном положении? Ты человек пришлый, сегодня здесь, завтра нету тебя, а мы… Что нам делать, чтобы и по совести было, и без порток не остаться?
— Пойду на прииск, добьюсь, чтобы новый отвод дали. Может, еще выгодней будет.
Сергей посмотрел на бригадира.
— Точно добьешься? — спросил он.
— Постараюсь. Не везде же олухи сидят.
— Взяли умника на свою шею, — сказал Хряпин. — Он в герои лезет, а мы тут слезами умоемся. Кончать надо!
— Погоди, не вякай, — отстранил его Сергей. — Думаю, бригадир, выхода нет. — Он снова посмотрел на Коробова. — Нет у нас выхода. Дело крутое завариться может. Да и потомки не простят, не говоря о современниках. Как считаешь?
— Ладно, — вздохнул Коробов. — Быть по сему. Давай, Хряпин, засыпь его осторожно, чтобы не протух, а завтра трактор на прииск пойдет, тогда и сообщим. Чего тебе, Иван, пехом переть, время дорого… Все! Кончай перекур, и так полдня угробили…
Липягин до вечера простоял у монитора, разбивал тугой струей грунт, превращал его в жидкую кашу, которая шла на элеватор, оставляя в резиновых матах редкие крупицы золота.
«Старатель нынче другой пошел, — думал он. — Не бродит, как бывало, по тайге с лотком да ружьишком, бархатных портянок не носит. Технически вооруженный ныне старатель, а подвалил фарт — снова, как прежде, глаза застилает. Вон как Коробов вскинулся! Обо всем забыл, лишь бы под себя грести. Серега, молодец, разрядил обстановку. Да и Коробов тоже скорей от неожиданности — не каждый день целехонького мамонта откапывают… А собаки-то! Значит, мясо свежее, как из холодильника. Подумать страшно!..»
— Иди ужинать, — сказал подошедший сменщик. — Выпить дадут, если бригадир не отобрал. Хряпин где-то раздобыл. Добытчик! Опять собак мамонтятиной кормит, там у него целая гора.
Липягин, еще ничего не понимая, пошел на полигон. Холмика, на котором лежал мамонт, не было. Вместо него — развороченный отвал, клочья шерсти, куски мяса, белые, разломанные кости… Вот оно что! Хряпин… Растерзал, раздавил, размазал по грунту, только бы следов не осталось, вдавливал в землю ножом, гусеницами, всей своей злобной тупостью!..
Возле вагончика за столом сидели свободные от смены старатели. Хряпина не было.
— Отсыпается, — понуро сказал Коробов. — Выпил, скотина, вот и взыграл… Я ему рога обломаю!
— Это еще кто там? — в дверях показался Хряпин. — Геолог, мать твою в поднебесье?! Хочешь, я тебе внутренности порву?
Липягин не размахиваясь ударил его в лицо. Хряпин взвыл, присел и, схватив Липягина за ноги, дернул на себя; оба они кубарем ввалились в вагончик. Хряпин, оказавшись наверху, вцепился в волосы и несколько раз ударил головой о пол, потом выскочил и, продолжая вопить, побежал к реке. Липягин, с залитым кровью лицом, сорвал со стены ружье и выстрелил вслед. Хряпин упал. Липягин выстрелил снова; кто-то сшиб его с ног, заломил руки, он вырвался и, по-прежнему ничего не видя, не соображая от застилавшего глаза бешенства, стал колотить наугад, пока его не связали…
— Бандит, — услышал он сквозь нестерпимый звон, разрывавший голову. — Человека застрелил, бандит! Ну, погоди!..
Через месяц его судили.
…Печь прогорела. Липягин снова подкинул на тлеющие угли сухие поленья, они занялись сразу, наполнив комнату звонким треском. Не закрывая дверцу, он продолжал караулить огонь. В лагере, когда валили лес, он вот так же сидел у костра, высматривая в жаркой сердцевине пляшущих там саламандр: крохотные зверьки, отряхиваясь синим пламенем, весело бегали по сучьям, ныряли в подернутые пеплом угли.
Потом костер заливали водой, затаптывали, на его месте оставалась отвратительная черная гарь. Саламандры умирали, раздавленные сапогами; в болотах под ковшом экскаватора гибли царевны-лягушки, задыхались в загаженных реках русалки. Нетронутым оставался только барак, в котором жили преступившие закон люди. Оставался распорядок дня — подъем, работа, отбой; оставалась норма выработки, с которой он справлялся, и пайка хлеба, которая была в обрез.
И еще была постоянная, изо дня в день точившая его мысль: что дальше? Он враз потерял все. Возвращаться домой нечего было и думать: нельзя возвращаться в город своего детства в арестантском бушлате, который никаким костюмом не скроешь. Работа… Конечно, его возьмут. В любую партию. И будут поглядывать с опаской, может быть, даже сторониться. Он хорошо помнил, как сам брезгливо относился к вернувшемуся из заключения геологу. Правда, тот своим прошлым не тяготился, охотно рассказывал, как за один сезон присвоил по фиктивным документам чуть не половину отпущенных на экспедицию денег.
К самому Липягину в лагере относились несерьезно: разве ж это преступник? Придурок, иначе не скажешь. «За бабу ежели кого искалечить — это понятно, а чтобы за мамонта…» То же самое говорили в зале суда: «Одни из-за гнилых яблок в пацанов стреляют, а этот — и того хуже… Выродок!»
«Ведь он же убежал, этот Хряпин, — сказал ему следователь. — Непосредственной опасности не представлял. Зачем вы в него стреляли? Вы же могли его убить».
«Я и хотел его убить, — ответил Липягин. — Потому что он всегда представляет непосредственную опасность. За целковый отцовскую могилу перепашет. Для чего такому жить? Совершенно незачем».
Защитник даже головой покачал: «С ума ты сошел, Липягин, ты же на себя преднамеренное покушение тянешь!»
Ему дали минимальный по этой статье срок; он отсидел месяц и вышел по амнистии.
В первый же день на свободе он отправился в пивную, смешал пиво с водкой, быстро опьянел и подумал, что жизнь с этого часа становится и вовсе омерзительной: надо что-то делать, решать, а что делать и что решать, он не знал. Кроме того, он почувствовал, что люди, которых он за свою недолгую, но богатую событиями жизнь успел полюбить и относился к ним доброжелательно, на самом деле скоты и подонки: вон стоит какой-то хмырь, смотрит на него нехорошо, с усмешкой. Липягин тому тоже не приглянулся.
Они подрались. Липягин сутки потом отлеживался: мужик попался крепкий. «Это уже перебор, — подумал он. — Это уже через край». И снова пошел в пивную — других точек поблизости не было. К вечеру его увела к себе симпатичная дворничиха. Люсей звали. Покладистая, без затей. На ушко не шептала, не воспитывала. Жить было можно. Даже вполне…
Однажды возле ларька повстречал ребят из артели. Отвернулся. Совсем ни к чему такая встреча. Но его заметили.
— Как жизнь? — спросил интеллигентный Серега. — Можешь не отвечать. Плохо ты живешь. Портки на тебе отутюжены, а под ногтями грязь. Это первый признак падения. Бичуешь. — Он затянулся сигаретой. — Ладно, бичуй дальше. Бродяжничество, как наркомания, лечению не подлежит.
Липягин молча отвернулся, отошел.
— Я думал, тебе орден от Академии наук дали, — сказал ему вслед Серега. — Задаром, выходит, старался, не оценили твое донкихотство…
«А ведь это он тогда бригадира надоумил, — подумал Липягин. — И Хряпина он подговорил». Подумал без всякой злобы, равнодушно. Констатировал факт. Одни люди живут ловко, другие — неловко. Вот и вся разница.
Потом…
Дальше все перепуталось: навстречу ему, словно огромная черная жужелица, припав к земле, мчался маневровый паровоз; он отчаянно свистел, скрежетал тормозами так, что, должно быть, плавились буксы, кричали птицы, девочка тянула к нему руки: «Дяденька! Ну что же ты, дяденька! Скорее!»… Всего одна минута. Длинная, как кошмарный сон. А платьице он запомнил, в горошек, и волосы по ветру… Откуда она взялась, зачем, сейчас ее расплющит… Потом — тишина и небытие. «Дяденька, ну что же ты!..» И долгий, не смолкающий крик, врывавшийся к нему в больничную палату, звеневший в ушах: «Верочка, вернись! Вера!..»
Все!
Вечер кончился. Надо закрыть трубу, а то выстудит. Мороз обещали к ночи за тридцать. Хватит рассиживаться, завтра много дел.
Наташа как-то сказала, что из многих таинственных явлений общественной жизни самым таинственным и непредсказуемым является мода: тот лихорадочный блеск в глазах и желание ни в коем случае не отстать от соседей, не быть белой вороной, которое охватывает самые широкие слои населения.
Бог с ней, с модой, думал Гусев, в конце концов от того, что Марья Ивановна наденет туфли-мыльницы, мир не перевернется: мода агрессивна, но не злонамеренна. Хуже, когда стремление быть в первых рядах и обязательно на виду — охватывает людей, облеченных властью, строящих электростанции или выпускающих мясорубки: тут не вельветовые брюки, не сапоги всмятку становятся орудием самоутверждения — тут разгораются страсти куда масштабней…