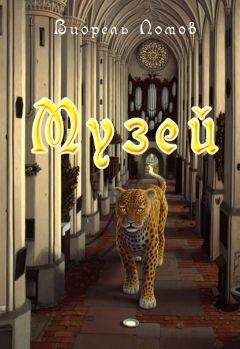— Ватник, правда, есть, в котором я из лагеря вернулся…
— В ватнике тебя в ЦК не пустят.
— Как же я без пальто на холод? — приуныл Яков Маркович. — У меня ведь спина болит!
— Это она в преддверии субботника, — не унимался Езиков. — За субботник ты, Тавров, получишь премию — на нее купишь новое пальто.
— Не купит, — возразил Алексеев. — Премия — не больше пятидесяти рубчиков. А Рапу ее с Лениным пополам делить надо. Идея-то субботника обоим пришла!
— Шучу я и сам, Петр Федорыч, — сказал Раппопорт. — А пальто нету!
— Больше ничего не украли? — сообразил Езиков. — Ну-ка посмотри! Они втроем вошли в комнату.
— Портфель! — крикнул Яков Маркович.
— Ну вот! А ты пальто, пальто! Что там у тебя ценного?
Обычно у Якова Марковича в портфеле всегда лежало кое-что почитать не для посторонних. Он сразу подумал об этом. Но сегодня, к счастью, ничего такого не было. Хорошо еще, папку в кабинете Макарцева он не нашел!
— Ценного? Да так… Ничего…
Яков Маркович недавно купил в киоске свежие речи вождей и собирался нарезать их для своего конструктора. А потом решил эту книгу оставить как историческую реликвию — последнее воспоминание о коллективном руководстве. Носил он ее всегда в портфеле на тот случай, если портфель где-нибудь забудет, чтобы перекрыть другое, бесцензурное. Книгу эту он вынимал в метро, а в редакции клал на стол, чтобы все посторонние видели название. И вот книга осталась на столе, а портфель украли.
— Надо сообщить Кашину, — решил Алексеев. — Пускай заявит в милицию. Что творится! Не помню такого, хотя в редакции с сорок пятого года. А вот и Валентин Афанасьевич. Легок на помине!
В комнату заглянул Кашин, подтянул отстающую ногу, тихо прикрыл за собой дверь, улыбнулся.
— Что тут у вас случилось?
— Пальто и портфель, — Тавров развел руки, не продолжая дальше.
— Ясненько! — хихикнул Кашин. — Прошу ко мне…
Из своего кабинета он вынес портфель Якова Марковича и пальто, аккуратно сложенное подкладкой наружу.
— Что за спектакль, Валентин?
— Спектакль? Вы систематически оставляете отдел незапертым. А я — материально ответственное лицо. Почему же вы не хотите беречь собственное имущество?
— От кого беречь? Что за идиотские установки?
— Установки не мои, Яков Маркыч. Я ведь исполнитель. А уж какие они — не мое дело. Хотите — жалуйтесь.
— И пойду! Не пойдешь — тебе сядут на шею!
Яков Маркович решительно взял из рук Кашина пальто и портфель и в гневе направился прямо в кабинет Степана Трофимовича.
Анна Семеновна, заметив Таврова, бросилась ему наперерез.
— Разве Ягубов вас вызывал?
— Он — меня?! — не понял Раппопорт.
Анечка понизила голос.
— Ягубов приказал пропускать к нему только тех, кого он сам вызвал…
— Еще чего он придумает?!
Раппопорт оттолкнул Анну Семеновну и решительно рванул двери ягубовского кабинета.
— Вот! — крикнул он с порога, показывая Ягубову пальто и портфель.
— Что случилось, Яков Маркович? — с готовностью спросил Ягубов.
Он стоял у окна, держа в одной руке блюдечко, в другой чашку с чаем. Отхлебнув глоток, поставил чашку на блюдце.
— Безобразие! — заявил Раппопорт. — Форменное безобразие!
— Успокойтесь, — Степан Трофимович поставил чашку на подоконник, вынул из кармана чистейший носовой платок, вытер губы. — Призыв к бдительности — общее распоряжение по редакции и касается всех сотрудников, в том числе и меня, и вас. Скажите спасибо, что это сделал Кашин, а не посторонние.
— А просто сказать он не мог? Не мог? — жаловался Раппопорт. — Сегодня вещи берет, а завтра будет шарить в карманах?
— Ну, не думаю, — усмехнулся Ягубов. — В карманы он, вероятно, не заглядывал. Впрочем…
— Что впрочем?
Ягубов заколебался. «Впрочем, если вам не нравится работать в «Трудовой правде», редколлегия и партбюро, я думаю, пойдут вам навстречу…» Нет, Макарцева такой шаг рассердил бы, да и в горкоме, и в ЦК найдутся люди, которым Раппопорт пока еще нужен для подготовки докладов. Если бы он не был уверен в своей силе, он не стал бы говорить со мной в таком тоне. Услышав «впрочем», Яков Маркович понял, что Ягубов хотел сказать. «Он меня ненавидит, это ясно. Но теперь я ему скажу что я о нем думаю. Мне терять нечего!»
— Так что же — «впрочем»? — решительно повторил Яков Маркович, израсходовав на этот вопрос весь запас гнева.
— Впрочем, — после некоторого размышления произнес Степан Трофимович, — Кашин погорячился… У всех есть свои слабости. Вот и вы тоже нервничаете. А зря!
— Зря? — Раппопорт сменил гнев на жалобу. — Да как же я могу работать в условиях, когда меня не уважают как человека. Может, кому-нибудь не нравится мой пятый пункт? У нас в редакции раньше этого не ощущалось…
— А разве сейчас есть? — рассмеялся Ягубов. — Или вы имеете в виду конкретно меня? Подумайте, Яков Маркович, неужели мы, партийные работники, можем быть антисемитами? Для нас главное — убеждения. Мы с вами, хотя и разных национальностей, но в одном лагере, так ведь? Хотя отдельные ваши соплеменники и плохо рекомендуют себя.
— А кто делал революцию?
Ягубов не ответил. Евреи участвовали в революции, но для чего? Раппопорт просто не знает последних веяний наверху. Они шли в революцию, чтобы захватить власть и начать последовательно насаждать в России сионизм. Хорошо, что партии и Сталину удалось вовремя пресечь эту опасную тенденцию. Но до конца довести эту линию пока не удалось. Не фашизм опасен для человечества, а евреи. Они рвутся к власти, и в США им это уже удалось. Они хотят править миром. И поскольку коммунисты выражают интересы всех народов, наша историческая миссия — спасти человечество. Так что антисемитизм в целом, если его понимать с прогрессивных позиций, — это гуманная политика в интересах передового человечества. Между нами говоря, Маркс портит всю историю коммунистического движения. Ее теперь, по существу, приходится начинать с Ленина и не лезть в глубокие дебри средневековья.
— Революцию делали не только евреи, Яков Маркович, — вежливо улыбнувшись, заметил теперь Степан Трофимович. — Должен сказать, что я лично не люблю только тех евреев, которые борются по другую сторону баррикады. Но не люблю я и таких французов, англичан, испанцев и даже русских. Я думаю, что и вы, Яков Маркович, не любите таких?
— Разумеется, — поперхнулся Раппопорт. Наконец-то он понял, что нужно заткнуться, ибо в любом случае прав будет Ягубов. И вообще, Яков Маркович устал, и у него болел живот от голода. — Я, Степан Трофимыч, только потому обижен, что я же член партии с тридцать четвертого года!
— Знаю! — Ягубов решил полностью отвести от себя подозрения. — И поверьте, люблю евреев, и у меня есть друзья-евреи. Есть партийцы, которые считают: евреи трудолюбивей и настойчивей. Они быстрее пробиваются и занимают все ответственные посты. Ведь так уже было в тридцатые годы! Разве это правильно, если русскими будут управлять евреи? Сторонники такой точки зрения спрашивают: а что, если бы у них в Израиле правили русские? Еще раз повторяю: это некоторые так считают, я с ними решительно не согласен!.. Давайте я помогу вам одеться, Яков Маркович.
Ягубов взял из рук Раппопорта пальто и, раскрыв его, держал, ожидая, пока Тавров суетливо просовывал руки в рукава. Яков Маркович был на голову выше и значительно толще. Зато Степан Трофимович был спортсменом.
— Между прочим, — вспомнил Ягубов, — я давно собирался с вами посоветоваться… Мне тут предложили написать диссертацию в Высшей партшколе. Тема: «Роль печати в коммунистическом воспитании трудящихся по материалам газеты «Трудовая правда». Это ведь близкая вам тема. Не будете возражать, если я к ней прикоснусь?
— Почему я должен возражать?
Яков Маркович понял, что за неувольнение ему придется написать Ягубову диссертацию.
— Не откажетесь помочь подобрать кое-какие материалы? От работы я вас на это время освобожу.
— Ленин сказал: «Партия — это взаимопомощь», — процитировал Яков Маркович.
Эти слова Ленина он придумал сам только что.
— Вот именно! — подтвердил Ягубов. — Значит, договорились.
Продолжая стоять посреди кабинета, Степан Трофимович вдруг подумал: не провоцировал ли его Раппопорт разговором на высказывания? Не исключено, что он был осведомителем в лагерях, и нить тянется за ним. А сейчас, когда руководство газетой передано ему, Ягубову, органы не прочь поинтересоваться. Он вспомнил весь разговор и пришел к выводу, что ничего лишнего не сказал.
Топая по коридору, Яков Маркович размышлял о том, что Ивлев клянет его на чем свет стоит и теперь ничего не остается, кроме как разориться на такси.
— Я извиняюсь, вы — Тавров?
Перед ним вырос мордастый молодой грузин в клетчатом пальто, большой замшевой кепке и игривом шелковом шарфике с цветочками.