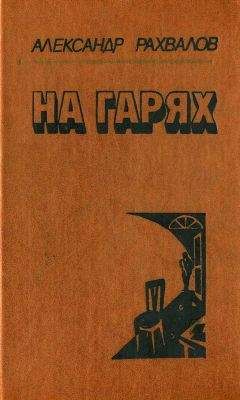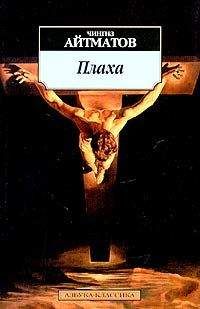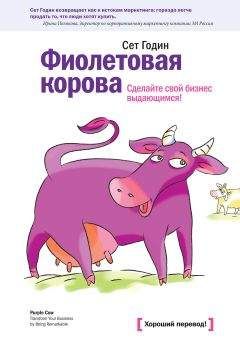В ларьках распаковывали картонные коробки с рыбными пирожками, и вроде бы есть хотелось, но она все-таки отказала себе. «И так толстая, хоть на диету садись». Тихон часто поддевал ее по этому поводу: «Вот потеряешь страховую сумму, — говорил он, лукаво прищурившись, — и тебя отвезут куда следует, тогда и похудеешь сразу. Там, во сырой камере, веками испытанная диета». Шибздик, недомерок, а кусать любил всегда. Нынче чего-то притих… Скажешь: «Устала я, Тихон, ноги не несут…» — а он уж, бывало, с ухмылочкой желчной: «Конечно… Кто с этим спорит! С камвольно-суконного вернулась, отработала там две смены кряду». Не поймет, стервец, что и с сумкой набегаешься в поисках страхователей — жизнь не мила, глаза ни на что бы не смотрели, а тут еще надо корову подоить…
Нечаянно совсем наткнувшись в мыслях на корову, Клава чуть не разрыдалась. Но стыд, охвативший ее, как бы загнал внутрь эти слезы.
Больше всего было стыдно капитана Ожегова, соседей. Хвалилась перед участковым: что нам стоит дом построить!.. Мы все сможем, и врастем в эту землю, как колоды под гулкими наковальнями… Не вросли, не получилось… Обидней, что убегать приходится по-воровски: молчком, с оглядкой да на цыпочках, будто сзади в любой момент могли окликнуть их, скрутить и призвать к ответу. В чем грешны-то? Ни в чем вроде не грешны. Тогда почему бежите от людей? Разве не в этом домике справляли новоселье? В этом, в этом, и капитан Ожегов может подтвердить, что в этом…
Самое время переброситься на участкового и обвинить его во всех земных и небесных грехах. Так она и поступила. Сразу же припомнила, как Ожегов пришел к ним в тот день и отказался не только от застолья, но даже от стопки, которую был обязан осушить до дна. Побрезговал, значит… Он побрезговал, а у них с Тихоном все рухнуло. Стойки, тощие, как рыбацкие тычки, выдержали и несут на себе крышу, а вот они, Клава с Тихоном, подогнулись и идут в полунаклон, как тени: ноги — колесом, лицом — к земле, и страшно поднять глаза. Не украли ничего, никого не осрамили, а стыд не отпускает.
Она обвиняла участкового в своей неудавшейся жизни на новом месте, как будто он ей поставил подножку и она, наткнувшись на эту подножку, упала вниз лицом.
Ничуть не меньше было ей стыдно соседей. Ратовала за крепкую жизнь, глотку рвала, доказывая соседям, что они размахнутся со временем и здесь, на болотной жиже, заживут по-человечески, только не ленись. Крику было много, возни тоже, и к этому крику привыкли, почитай, в околотке — и вдруг наступит идеальная тишина, точно и звуки-то все выйдут, как выходят к весне корма для скота. Как же, мол, так, Клава? Обман?.. Соседи бросятся за ней, и на вокзал они придут, побегут за поездом, размахивая на ходу: «Эй, как же так? Ты куда, прорабша? Кто ж теперь жизнь-то новую поднимать будет на болотной жиже? А?!»
На рынке по-прежнему толпились люди. В последнее время они перестали посещать кинотеатры города и магазины: рейды нарядов милиции, очищающих днем и кинотеатры, и магазины, заставили народ насторожиться. При виде милицейских машин люди невольно поджимались и шныряли в подворотни. На рынке же их не трогали.
Тихон появился неожиданно. Потный и всклоченный, он стоял вблизи ворот и, вытягивая шею, пытался заглянуть через толпу… Клава первой заметила его и обрадовалась.
— Окружай их, тискай их, дави, дави, пьяниц! — по-детски ликуя, прорывалась она к мужу. — Не выпускай их из кольца! Тесни к забору, пьянчуг таких!..
Тихон едва отбился от нее.
— Присядем где-нибудь, — сказал он. — Ноги не держат.
Они отошли в сторонку и присели на пустые ящики. Под ногами шипела стружка. Клава сосредоточенно стала пересчитывать деньги, а Тихон, насупившись вдруг, вздохнул:
— Не такой уж я пьяница… Просто собираю все неприятности в кучу и смываю их водкой. Потом опять хорошо живу, без мук.
Она его не слушала.
— Это у меня как запой, — продолжал он. — А запой приходится на время болезни душевной… Не как, допустим, ревматизм, хотя тоже мучаюсь, а другое совсем… Да нет, не другое, — оспорил он самого себя. — Так и есть — ревматизм! Заболит — вот я и лечусь. А ты думаешь, что мне выпить охота, как жрать? Мол, пришел час обеда — и подавай обед? Выпью — и боль проходит, — вырывалось из сухого горла. — А там остается занять свою душу чем-нибудь… Такой человек, если ему удастся занять чем-нибудь свою душу, как ребенок, спокоен. Даже счастлив! Он не будет уже кричать…
— Ты о чем это? — спросила Клава. Она пересчитала деньги, и по всему было видно, что осталась довольна. — Про что ты тут «тихо сам с собою», а?
— Я говорю, что занятый делом человек ни пить, ни кричать не будет, — повторил Тихон.
— Правильно, — согласилась с ним Клава. — Не надо кричать… Ну, выпил, допустим, а кричать-то зачем? Зачем оскорблять всех и обливать грязью?
— Да я тебе не про то!..
— А я — про то, — светилась она. — Ты даже признаться не хочешь, не желаешь согласиться со мной, что болен, и болен серьезно. Тяга к выпивке — это же болезнь! Чего ее стыдиться? Ее лечить надо, с ней надо бороться сообща…
Да, она действительно не слушала его, когда считала деньги. Но и он не стал повторно пересказывать свой монолог.
— Впору хоть купаться, — заметил он. — Дурацкая эта жара… К вечеру бы баньку истопить, попариться… Одежда к телу прилипла.
Клава развернула ящик, присела покруче, подобрав ноги под себя, чтоб не завалиться на спину. Жара ее допекла. Но люди продолжали шнырять туда-сюда и все тащили, тащили перегруженные всякой всячиной сетки и сумки, как бы говоря друг другу: если зиму пережили, то с весной-то уж как-нибудь поладим. Она, весна, да к тому же такая ранняя, всегда сговорчива и хлебосольна: вывернула погреба, распахнула картофельные ямы — не желаешь южных плодов, так бери местные соленья и варенья, картошку и морковь, грибки сушеные… Клава всегда поражалась терпению людскому: сами не едят, всю зиму на суповых пакетах сидят, но весной выкатят и вскроют бочки, чтобы содержимое их тут же распродать чужим людям. Она так бы не могла, она не понимала: как это — работать, сжигать себя, а на питании экономить?
Тихон расстегнул на груди рубашку.
— Пропаду… Пить хочу, но боюсь: выпей стакан, а там не остановишься, — проговорил он. — Рубаху хоть выжимай… Прилипла к спине, как пластырь.
— То-то! А я забыла тебя обрадовать! — спохватилась Клава и склонилась над сумкой. — Рубаху тебе купила… самую модную — в полоску… В палатке-то из-за них давились.
— Но ты, конечно, растолкала всех…
— Что же я, своему касатику да не куплю! — улыбнулась Клава. — Бог, думаю, с ним, отдам семнадцать рублей, так он у меня будет ходить по моде… Как путный. Смотри! Красивая какая… А?
Она вытащила из пакета рубашку и развернула. Перед Тихоном лежала безрукавка — серая, в крупную зеленую полоску. Безрукавка была распашной.
— А че! Тебе хоть посвободней в ней будет, — уверяла Клава, разглаживая на коленях дорогую покупку. — Три кармана… есть куда папиросы класть, спички. Нравится?
— Нравится, — недовольно отозвался он. — Изношу до осени. Погода бы только стояла добрая… В полоску-то даже приглядней: не скроюсь с глаз, не убегу…
— Да беги, мне что… — отвернулась она. — Тебе все не нравится. Что бы ни купила, все не так. Ядовитый ты человек…
Она собрала по старым складочкам безрукавку и сунула ее в пакет.
— Ты не сердись. Я просто вспомнил сразу… Как в кино этих показывают — военнопленных, — утешал он жену. — Они там в таких же примерно курточках, только с рукавами… полосатики. Кепочку бы еще такую же… в полоску.
— Смешно дураку, что рот на боку. Смейся…
Она заметно огорчилась, и Тихону стало жалко ее. Он протянул к ней руки…
— Убери, убери… Знаешь, я не люблю этого, — отстранилась она. — Смешно тебе, дурачку…
— Конечно, дурачку! — согласился он. — Кто бы спорил! Другой бы кинулся доказывать обратное, божился бы, клялся, что он умный, а я — нет! Сказала, что дурачок, — значит и вправду дурачок. Не сердись. У нас еще столько дел впереди!
— Какие дела-то? — фыркнула она. — О продаже я все объявления уже расклеила. Сейчас домой поеду…
— А я?
— Как хочешь… И хватит тебе дурачиться-то, — не смирялась Клава.
— Обидчивая слишком… Шуток не принимаешь, — притих Тихон. Петушился тут, подпрыгивал на ящике и разом сник.
— Трудный ты человек, Тихон, — проговорила Клава. — Желчи в тебе много. Так много, что и мне перепадает… такая горечь.
— Хватит тебе!.. Что ты, как… — подпрыгнул Тихон на ящике. — Да изношу я твою рубаху, изношу! Не такие носил… Поехали: мне баню топить надо.
Он встал и отряхнул брюки. Стружка налетела даже за отворот рубашки — он отдирал ее, как репей. На остановку отправились через рынок, открытый, как толкучка: ни одного навеса, чтоб спрятаться от солнечных лучей, палящих беспощадно.