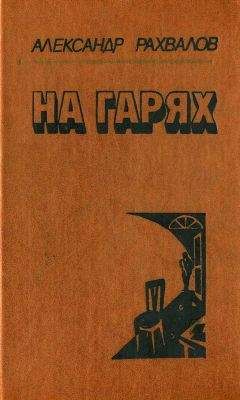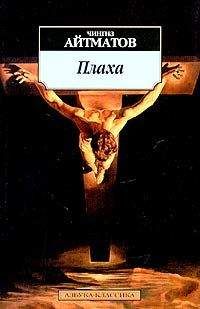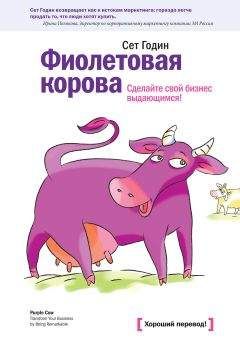— Иди сюда, родная, иди, — фыркал он с полка. — У меня всегда найдется для тебя место в душе.
— Нужна мне твоя душа… Хоть на полке-то место дай! — Она поставила таз и взобралась на высокий, как тумба, полок. На этом полке, чтобы сидеть, надо было согнуться в три погибели. «Кругом одни неудобства. Сколько материалу зря перевел».
Тихон объяснялся с нею уже много раз, признавал свои ошибки: не плотник же, мол, конечно, допустил просчеты, но и эти просчеты удивительны по своему исполнению — все гладко, все ровно, как отшлифованное. Старательным он был мужиком, если уж брался за что-то — делал на совесть. Поэтому негде было споткнуться, тем более занозить палец. Насчет удобств — это уж просчеты в замерах, неточно подогнал, не рассчитал, отсюда — там высоко, здесь низко, и с печью так же: кирпичи остывают быстро… Если бы заново строиться, тогда бы он не допустил ни одной ошибочки. Любой опыт приходит с годами, и не только — необходим беспрерывный трудовой процесс по специальности. «Не в плотники же мне идти! — оправдывался он. — Но если скажешь, то пойду… Лоб расшибу, а сделаю, как ты повелишь».
Неудачная баня. Но Клава мылась в ней всегда с большим удовольствием. При тихом, молочном паре, когда он прикипает к отпотевшему оконцу, как иней, хорошо тут плескаться. Люди по-разному смотрят на баню. Слабые не терпят ее, сильные любят и стараются приохотить к ней отпрысков своих. Тихон как раз был из породы сильных, любящих жаркую баньку. Потому он всегда приходил первым и «воровал» первый жар. Клава понимала его и кричать не кричала, если запаздывала минут на десять: пусть бесится, шибздик, выбивает дурь из себя.
На дворе смеркалось. Лампочка, светившая над окном, качалась в тумане, как поплавок на волне.
— Ноги в тазик ставь, — смягчилась Клава. — Вон он, на лавке.
— Ради тебя я не только в тазик — в Туру брошусь, — продолжал дурачиться Тихон. Видимо, крепко влетел в настроение. — Ты только не толкай меня… Я сам.
— Без костей язык-от… Че тебе, молоти, — успокоилась она. — Сроду не устанешь.
Тихо было, спокойно. Только вода плескалась да во дворе, шарахаясь к воротам, урчали собачушки.
Тихон сидел на краешке полка. Теперь он никуда не спешил. Вода в бачке была.
Он потер Клаве спину, окатил водой, а потом вдруг спросил:
— А собак-то куда?
— Никуда. С собой повезу. Посажу их в коробку — и в вагон, — ответила она, и голос у нее был серьезным. — В космос такие же летали, а мои — чем хуже? Доедем как-нибудь.
— Доедете, — согласился Тихон. — А я уж как-нибудь дойду. Может, верхом на нем поеду. На теленке-то.
Замолчали. Каждый понимал, что не так-то просто переехать на новое место: не новое место пугало, а вещи, весь этот домашний скарб, но кроме всего еще и скотину надо было перевозить. Зачем? А бог знает. Если бы только тряпки-деревяшки переезжали да люди, накопившие их, отправлялись вслед за ними, а то ведь и души едут, не желая терять того, к чему так привыкли. Из головы можно все выбросить, а душа — нет, она так просто не отдаст ничего, и с ней не поспоришь. Она может толкнуть тебя, разумного человека, на самый дурацкий поступок, и ты, обузданный ею, пойдешь, еще как пойдешь. И Тихон прекрасно понимал, на какую глупость он идет, но когда представил себе Клаву: вот она вошла в вагон, отыскала свое место, села, а на коленях — картонная коробка, из которой торчат глупые мордашки Динки и Крошки, — представил себе — и расхохотался.
— Не упади с полка… Смеху-то сколько… — с удивлением взглянула она на мужа. — Совсем уж одурел. Садись ближе, хоть спину-то тебе шоркну…
Она повернула его боком, оглядела с прищуром, как будто собиралась стричь, и сказав: «Наклони голову-то!» — навалилась с мочалкой. Высокая пена, хлюпая и взбиваясь, легко затягивала пропаренное тело мужика, и он не сопротивлялся тому, что его мыли.
— Сиди! Я с тебя всю грязь смою, — говорила Клава. — Все притоны, все запои, все скандалы сдеру, как коросты… Ты у меня чистеньким будешь… В Обольске грязнули не нужны: там уважают трезвый и работящий народ. Вот так тебе, гаврику… Не крути башкой-то, не крути…
Пар потихоньку высквозило. И только от лампочки падала молочная полоса, широкая, как полотенце. Клава, крупная, мясистая баба, натирала мужа мочалкой, и тот торчал из пены — недовольный, с по-детски капризным лицом.
— Я тебя доведу до блеска… Все грехи смою, — напирала она. — Я тебя отшоркаю и отскребу, как законченную сковородку…
Тихон, крепко прижатый к полку, не вырывался.
— Терпи, дружок. Шкуру с тебя никто не сдирает — грязь сдираю, — разошлась она. — Вся тут ласка моя, вся любовь… Вся тут правда моя и обида! Не крутись, а то ошпарю кипятком.
Березовым веником пропиталась баня. Березою пахло так же густо и плотно, как пахнет от поваленной сосны — хвоей, смолой… На этот запах не натыкались, как вначале, — его вдыхали вместе с паром, обмякшим вдруг.
А после бани пили чай. Вдвоем Клава не очень-то любила баловаться чайком, но свежего молока на столе больше не было.
— Если придут покупатели, — наказывала Клава, — ты уж, Харитоновна, дай мне телеграмму.
— Дам, дам… Не переживай даже, — обещала старуха. — А вещи-то как повезете?
— Контейнер железнодорожный заказали, — ответила хозяйка. — Нагрузим его, загрузим здесь, а там распакуем. Удобно так…
День был тихий и теплый. С утра заходил Юрий Иванович, попрощался на всякий случай.
— Ну уж… если что не так, — помялся он, — то не серчайте. Пойду на работу.
— Давай, писклявый мужичок, топай, — улыбнулась Клава, подавая ему руку.
— Тихона-то не грызи, — уходил Юрий Иванович. — Че он тебе, калач, что ли. Бывайте…
И, важный, с расправленной грудью, побрел к тракту.
Томились в ожидании контейнера. А когда тот пришел, начали таскать на себе весь домашний скарб — туда, к дороге. Хлюпая по болотине, проклинали топкую окраину, не просохшую даже в такую жаркую пору.
Тихон проводил жену на вокзал. Он не стал дожидаться поезда на Обольск, всучил ей коробку с собаками и, не приласкав никак, вышел из зала ожидания.
Дома он соберет рюкзак с провизией, с вечера побреется и ляжет спать, чтобы подняться на заре и выйти с теленком за черту города. С вечера же он мысленно изучит и проверит свой маршрут и останется доволен: за час с небольшим выберусь… Ночью его разбудит кошка. Он откроет глаза и почувствует, как она дышит вблизи его лица — теплая и спокойная. Он погладит ее и пообещает: «Харитоновна тебя возьмет к себе… Спи, и ничего не бойся».
Больше он не уснет.
Местные власти перестарались. Крикливая и бестолковая возня вокруг «казарм», когда переселяли работников камвольно-суконного комбината в малосемейку, а затем и размашистый, жгучий, как нагайка, рейд по наведению порядка в дневном городе привели к тому, что народ куда-то исчез. Город опустел, ни души на улицах и в скверах. Так здесь бывало только тогда, когда наступал сабантуй и с раннего утра люди уходили на Казачьи луга, чтобы попеть, поплясать, поторговаться у ярмарочных рядов, где всего было вдоволь. Но этот летний праздник задушили в последние годы Днем молодежи, а молодежь не смогла слепить из своего праздника даже подобия… Наступила дикая пустота, перегруженная воздухом, а не людьми. «Меньше народу — больше кислороду»… Нет, без привычной сутолоки тяжело передвигаться по городу, ни на кого не натыкаясь. Опустели магазины и кинотеатры, в городском саду не поскрипывали, как прежде, качели, даже колесо обозрения завязло в небесах, как будто больше нечего было обозревать и некому. По знойным улицам ползли осторожные автомобили да изредка шипели автобусы, по привычке останавливаясь в нужных местах. Странная опустошенность. Точно всех жителей города свезли в инфекционное отделение областной больницы. Те же улицы, те же дома, а человека не встретишь… Многочисленные главки, тресты и конторы стали почему-то работать с зашторенными окнами, как засекреченные, даже наглядную агитацию поснимали со стен — затаились. Только управление торговли не сменило козырька, обтянутого кумачом, но лозунг все-таки переписало: «Да здравствует народ!» превратился вдруг в иную связку — «Да здравствует наша родная партия!» Шрифт стал помельче, но новый лозунг, видимо, успокаивал работников управления — у них даже окна были зашторены наполовину, да и то только в первом этаже. Кое-где мелькали приземисто-белые фигурки милиционеров, для которых уже прозвучала команда «отбоя».
Но город по-прежнему где-то прятался, как куропатка от ястреба, чтобы в очередной раз не оказаться в милицейском автобусе, который бы доставил его в отделение милиции, а там бы опять стали «пытать»: «Кто таков? Почему в рабочее время шляешься по улице?» — а он бы, перепуганный, сбивчиво отвечал: «В магазин спешил… думал рубашку купить… носки… галстук… Вечером-то они не работают!..» Конечно, его бы отпустили, предупредив, чтоб не болтался впредь по городу в дневное время, — но — зачем лишний раз рисковать? И без того наказан: остался с окладом, премию смахнули…