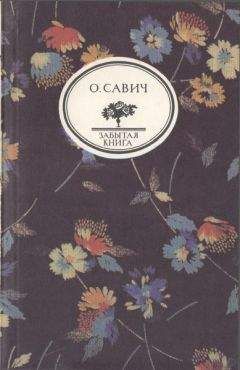А дети росли, и хоть росли они вовсе не так, как, может быть, мечталось, потому что Елена Матвевна любила помечтать, но жаловаться на них не приходилось, и если подумать, так дети были лучше всех детей, и умнее, и интереснее, а если такая высокая оценка тоже была мечтою, так разве не были они — свои, и разве не это делало их лучше всех, и разве не это было главное? И ведь, правда, выросли они на редкость удачные, не отрывались от семьи, хоть и была им предоставлена полная свобода, а может быть, и сами они ее отвоевали, — этого Елена Матвевна не то что не помнила, а не хотела помнить. Если и возвращались под утро, то все-таки приходили не куда-нибудь, а к себе в дом. И если говорили: вы этого, мама, не понимаете, так, во-первых, еще таких детей свет не видал, которые бы этого не говорили, а во-вторых, это вовсе не значило, чтобы сама Елена Матвевна думала, что она чего-то не понимает. Конечно, не все книги и не все разговоры были ей доступны, это она признавала. Но опять-таки, разве было это так важно, когда она сердцем своим чувствовала, что детей своих она понимает, может быть, лучше, чем они сами. А что Елена Матвевна свои мысли и чувства высказать не могла, не умела, так в этом она сама была виновата, да и дело-то было вовсе не в словах. А в конце концов, к кому шли дети с каждою нуждой и с каждым вопросом, хотя бы и знали, что где ей, малообразованной, отвечать на умные их вопросы? К ней же.
Дети были больше похожи на мать, чем на отца, вот только ростом они мать перещеголяли. Елизавета ходила уже на службу, и кажется, были ею на службе очень довольны. Была она хорошенькая, даже красивая девушка. Она отходила положенное ей время в среднюю школу, на службу устроилась легко, по рекомендации тов. Майкерского, который с удовольствием оказал эту услугу своему помощнику. Денег она зарабатывала как раз достаточно, чтобы на них одеваться, тем более что одежду шили они вместе с матерью у себя на дому по вечерам, и мать при этом, конечно, работала больше дочери и, пожалуй, больше дочери заботилась, чтобы шло той платье к лицу.
Константин, в противоположность родителям и сестре, был очень худ и был шатен с темными глазами. У остальных всех глаза были такой голубизны и ясности, что хоть полоскайся в них, как в реке. А у Константина глаза были темно-карие, замкнутые и всегда безулыбочные, даже когда он смеялся. Смеялся он нередко, ел хорошо и вообще здоровьем мать не пугал, разве когда уж очень засиживался за книгами. Он учился в институте, работал очень много, так что и отец глядел на него с уважением. Мать вздыхала, она чутьем догадывалась, что талантов больших у Кости нет, да и неоткуда им взяться, в кого бы? — и что берет он усидчивостью. И хотя был он, как сказано, вполне здоров, однако Елена Матвевна с возрастающим беспокойством считала папиросные окурки, вынося их утром из комнаты, где ночью занимался Константин. Все казалось ей, что уж слишком он узкогруд, что растут под глазами у него синяки и западают глаза, и все прислушивалась она, не кашляет ли он за стенкой. Зато он не беспокоил родителей никакими грубыми выходками, как отец — все выслушивал, как мать — все старался запомнить, и как оба родителя — медленно уложив все в мозгу, со своей дороги никуда не уходил в сторону, так же твердо, как они, и так же верно, чутьем, никуда не торопясь, жил, глядя прямо перед собой, и жизнь не открывала ему ни блестящих обманных перспектив, ни неожиданных пропастей.
И еще жил в квартире один чужой человек, неопределенный какой-то молодой человек, балетный танцор по профессии, Черкас, Аполлон Кузьмич.
Он служил в местном театре, в оперетке, но голосом не обладал, а только проворными ногами. Вряд ли он был многим старше Константина, но Константин перед ним казался совершенным щенком. Черкас глаза имел довольно пронзительные, лицо от густой растительности — синеватое. В общем, напоминал он кавказского человека, но по-русски говорил правильно и почти изысканно. Поселился он у Обыденных недавно, человек был, очевидно, перелетный, как все актеры, неприятностей с ним никаких пока не случалось, вежливостью своей он даже смущал хозяев. Он никогда не забывал при встречах осведомиться о здоровье, у Петра Петровича неизменно спрашивал что-нибудь про сукно, чтобы показать свое уважение к опыту и высокому званию помощника заведующего, Елене Матвевне он так долго расхваливал ее пироги, пока она не посылала ему в комнату огромный кусок, и тогда он осторожно стучал в дверь столовой и, войдя, рассыпался в благодарностях; только Елена Матвевна отчего-то его побаивалась и к столу приглашать не любила; Елизавете он всегда отпускал комплименты, и хотя были его комплименты неизменно приличны и почти что старинны, Елизавета отчего-то всегда краснела; Константину он сам вызвался помогать в занятиях, и хотя в книгах он разбирался плохо, но делал изумительные чертежи, а на вопрос, где это он научился, он только вежливо усмехался в ответ. Но в общем, все были жильцом довольны, и Петр Петрович часто даже с гордостью заявлял знакомым: «А у нас артист живет, в театре играет», — на что знакомые почему-то с удивлением отвечали: «Скажите пожалуйста!»
К тому времени, когда Петр Петрович возвращался пешком со службы, вся семья бывала обычно уже в сборе и рассаживалась за столом. Очень часто Константин приходил к столу с книгой, и это означало только то, что у него экзамены на носу. Елизавета тоже норовила положить рядом с прибором какой-нибудь иностранный роман и за супом то и дело пыталась украдкою вычитать несколько строк. Петр Петрович этого очень не любил, он считал, что обед есть настоящее дело и что только за обедом все и встречаются. Константину он прощал все, во внимание к усиленным занятиям, но, заметив книгу у Елизаветы, хмурился. А когда его нахмуренные брови замечала Елена Матвевна, она часто, без дальних слов, отбирала у Елизаветы книжку и прятала ее под скатерть. Елизавета обижалась главным образом на то, что с нею поступают как с маленькою, Елена Матвевна отводила от дочери глаза, краснела и старалась удержать улыбку, но книги не возвращала до конца обеда.
Петр Петрович за столом говорил мало, но очень любил слушать споры детей. Когда обращались к нему с вопросом, не имевшим прямого отношения к тому, в чем он был тверд или что знал вполне достоверно, он обычно принимал рассеянный вид и говорил будто в сторону: «Да, да…», или: «Это надо подумать…», или: «А вот поживем, увидим». Очень может быть, что при этом в мозгу его шла упорная работа, медленно подымались и опускались чашки каких-то весов, на которых колебались чужие мнения и собственный опыт. Иногда, вечером, раздеваясь, он спрашивал у Елены Матвевны ее мнение о вопросах, которые бывали затронуты сегодня, накануне, а то и за много дней и о которых она уже давно забыла. Она честно излагала ему все, что она по этому поводу думала, он внимательно ее выслушивал и, возобновляя прерванный туалет, говорил, как и за столом: «Да, да», — но своего мнения опять-таки не сообщал.
Характер у Петра Петровича был до того ровный и спокойный, что и другим людям в его присутствии становилось как-то спокойнее. Однако нельзя сказать, чтоб был он невозмутим или безгранично весел. Нет, он умел и поахать, повздыхать с собеседником от глубины души, выслушав какой-нибудь печальный рассказ, и покачать головой при мрачной оценке современности и ее суетливых непрочных людей, он умел и посмеяться от души густым смехом, заражая других, так что они тоже принимались хохотать, часто даже не слышав шутки, не зная повода, а невольно присоединяясь к искреннему веселью Петра Петровича. Вообще все, что он делал, он делал искренне, от всей души, и это-то и подкупало всех. Зато о том, чего он не знал, он никогда не позволял себе высказываться и всегда остерегался, не из страха или расчета, а просто боясь непроверенного неверного суждения, дать кому-нибудь или чему-нибудь отрицательную оценку. И когда при нем, например, ругали молодежь, он любовно глядел на своих детей и тихо вставлял:
— Да, да… Ну, что ж, у них — свое. Вот поживем, увидим.
О чем он никогда, вероятно, не думал, с чем сросся накрепко и неразрывно, к чему привык, как можно привыкнуть только к собственному телу, — это была, его судьба, его собственная жизнь. Тут, казалось, все было совершенно понятно и просто, тут никогда не рождался вопрос: зачем или почему? Было давно всеми позабыто, как это случилось, что Петр Петрович пошел по суконной части, но зато было непререкаемо ясно, что теперь ему негде и служить, кроме как в распределителе. Ни сам он, ни Елена Матвевна не рассказывали о том, по любви ли они женились и как это вышло. Но все окружающие были согласны, что лучшей пары этого возраста, привычного, так сказать, к прочным супружествам, во всем городе не найти. Было бы совершенно неестественно, если б ни с того ни с сего мирная жизнь Петра Петровича вдруг изменилась, когда даже в самые трудные годы голода и разрухи, при отсутствии службы и малолетстве теперь уже полусамостоятельных детей, жизнь эта все-таки текла мирно, настолько мирно, что, порою неохотно вспоминая общее бедствие, свое стремительное похудение и голодные, холодные ночи, Петр Петрович говорил: