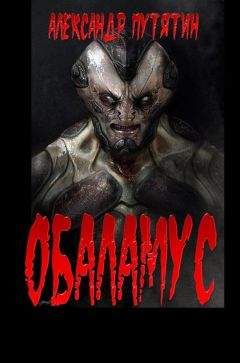— Обещали уже не раз хоть для караульной службы шубы, да все обещают пока только, — испытывая неловкость оттого, что сам в шубе, а пожилой боец этот зябнет, проговорил Тарасов.
— Ну это ничего, вытерпим, — ответил боец. — Знамо дело: где же вдруг все возьмешь? Дома одни бабенки с ребятами малыми остались. У меня вон с тремя мается. Чего спрашивать-то? Эго уж…
Он не договорил: сзади Тарасова раздался приглушенный стон и хрустнул снег. Комбат обернулся и увидел то, что видел „папаша“: один из бойцов скрючился на снегу.
— Ты ранен? — став перед ним на колени, встревоженно спросил Тарасов.
— Да… Думал, дойду, а она течет и течет… Прихватил второпях, а она идет…
— Чего же ты молчал? — и удивился, и рассердился Тарасов.
— Не хотел огрузить вас, думал, дойду…
Старшина осторожно снял с раненого шинель, разрезал рукав гимнастерки, перевязал и одел снова.
„Какие люди!“ — восхищенно думал Тарасов, ожидая, пока перевяжут раненого.
Надо было скорей домой.
— Старшина! — позвал Тарасов.
Абрамов встал перед ним.
— Вы втроем быстро к ротному. Передашь мой приказ: предупредить все посты в роте, всех в обороне, чтобы подготовились к возможной вражьей вылазке. Они могут кинуться по следу и крупной силой, штаб ведь, вроде, какой-то мы разгромили. Да пусть сейчас же ротный позвонит во все роты, чтобы и там приготовились.
— Есть сейчас же к ротному и передать, чтобы подготовились к встрече! — козырнул старшина и, взяв троих бойцов, исчез в темноте.
— Васильев!
— Есть, товарищ комбат!
— Раненого сейчас же в санчасть!
— Есть раненого в санчасть!
— Вы, — Тарасов повернулся к „папаше“, — глядите в оба. Там у нас двое оставлены, пароль они знают старый, учтите это. Если впереди завяжется стрельба, помогите им уйти.
— Понятно, — „папаша“ крякнул, поправился, — есть усилить наблюдение и выручить наших, как потребуется!
— Вы вернетесь на пост и пошлете в роту за сменой, — приказал остальным. Но один из бойцов заметил:
— Нам уж недолго стоять, и так сменят.
— Ну хорошо. Кто-нибудь помогите мне донести это, — он показал на чемодан. Один из бойцов взял трофеи, и Тарасов хотел уже идти, как „папаша“ остановил его, проговорив:
— Я все хочу спросить у вас: что же вы сегодня одни? Никитич земляк мне, понимаете, вот и беспокоюсь.
— Не расстраивайся, Никитич просто остался дома.
6
Никитич был ординарец комбата — они всегда были вместе. Первый его ординарец был исполнителен и расторопен, но ему все надо было указать да приказать. Сам он ничего не видел. Тарасову надоело это, и он приглядывался к бойцам, стараясь найти себе нового ординарца. Однажды по дороге из второй роты домой он наткнулся на группу бойцов, перекуривавших после работы. Они рубили сруб для дота, чтобы ночью перенести его на передовую и поставить, где было намечено. Прячась от ветра, они курили, забравшись в этот сруб, у костерка из щепы, горевшего посередине. Тарасов на лыжах подошел к глухой стене сруба и собирался было обогнуть его, чтобы выйти к двери, но разговор остановил его.
— Вот-те и „броня крепка“, — зло говорил один из бойцов, — от самой границы топал, нагляделся, натерпелся.
Боль душевная оттого, что враг сумел так далеко забраться на нашу землю и столько причинить нам горя, постоянно жила в душе и мыслях Тарасова. И конечно, думалось: как это могло случиться? Но таких сомнений, как высказал этот боец, у него не было. Недоумение от случившегося не перерастало у него в сомнение, правильно ли все вокруг него делается. Теперь он, ни на секунду не задумываясь, от души, от глубочайшего убеждения мог в любой момент сказать себе и остальным: правильно! Думая, отчего случилось такое большое несчастье с народом и Родиной нашей, он не находил других объяснений, кроме тех, что были сказаны всем: „Враг сумел нанести нам такой удар только из-за внезапности нападения“.
Когда, поначалу с двадцатью бойцами, выходил он из окружения, ему довелось услышать примерно такой же разговор. Он не придал ему значения, счел, что это просто следствие горя. Но утром следующего дня двоих из группы не оказалось на месте. Сначала подумалось, что они отлучились куда-то ненадолго, но их все не было. Стали искать — нету. Бросать товарищей никто не хотел, решили подождать — может, ушли за чем и вернутся. Но они ушли к фашистам и для того, наверное, чтобы быть принятыми лучше, выдали остальных. Тарасову с товарищами удалось вырваться с трудом, потеряв в бою семь человек. Все это так крепко село ему в душу, что теперь он считал услышанный разговор близким к предательству. Все вскипело в нем. Отдернув крышку на кобуре пистолета, он хотел уж арестовать этого оратора и отправить его в особый отдел, как спокойный и чуть насмешливый голос другого бойца остановил его:
— Все, что ли, али еще что будет?
— А что, правда тебе не по душе? — вопросом на вопрос ответил первый.
— Об этом речь наперед. Я к тому пока, что вот, бывало, делаешь дома что, сел перекурить или остановился, а жена и спрашивает: все, что ли? Это она к тому говорит, что ты намусорил, а ей ведь убирать надо, так уж не два же раза мести мусор-то. А то выметет, а ты опять намусоришь. Вот я и спрашиваю: все али еще мусорить языком будешь?
— Я, папаша, не мусорник, а что видел, то и говорю. И думать никому не закажешь. Мне, может, понятие нужно, а по-твоему, сразу и язык убирай. Но меня этим не пугай, страшней смерти ничего нет, а она каждый день рядом, — вызывающе ответил первый боец.
Тарасова так и подмывало выйти и заткнуть ему рот властным окриком, но он понимал, что ни властью, ни криком зароненную в души людей думу не вынешь, и держался, желая, чтобы „папаша“ разделал этого говоруна.
— Так ведь понятие-то разное бывает, мил человек, — все так же, без горячности, проговорил „папаша“. — Вот у нас, помню, дело было: один мужик возился, возился с бабой, ничего не выходит. Осерчал и говорит: „У тебя, Марья, что-то не так устроено!“ Тоже ведь понятие, — уже под дружный хохот договорил он.
Тарасов прыснул, придавив ладонью рот, чтобы не услышали. Это поразрядило его злость.
— Смешком можно отделаться, нехитрое дело, — когда смех поутих, обиженно заметил первый боец.
— По-сурьезному хошь?
— Я разобраться во всем хочу.
— Ну, давай разберемся. Перво-наперво: никогда не мели о том, чего хорошо не знаешь. Это заруби себе на носу. Пусто слово к пустоделанию ведет, да еще и душу ест, как ржа железо. А это теперь особо ни к чему. Так или не так? — он не дожидался ответа и сам веско сказал — Так! Это уж как хошь думай, твое дело, а я знаю, на чем стою. Теперь другое возьмем. Что ты можешь знать, чтобы судить? Темно да рассвело — и все. Мы вот, к примеру, все видим, что у нас тут делается, а рассудить, что к чему, не сможем. Всего-то ведь мы не знаем. Батальонный, поди, и то всего-то не знает, а мы что? Нам сказано: тут вот стоять — хоть потоп, и мы должны стоять. А то как же: все почнут, куда вздумается, бегать, так что от России останется? Всяк свое должен делать, чтобы ни-ни, не отступать от этого. Может, и погибнуть придется. И колотить нас будут, и покажется, ни к чему тут стоять, а стоять надо. И винить кого-то надо подумавши да все разузнавши.
— Давно ли было, помните все, — послали нас в лощину эту и велели никуда не уходить и глядеть в оба. День глядим, два глядим, три глядим — ни слуху ни духу, ни живой души, и кое-кто зароптал — зря только людей морозят! А на пятые сутки что вышло? Ну, что?
Ответа не было. Тарасов нашел щелку меж бревен и заглянул в сруб. Костерок в безветрии горел спокойно— бойцы дымили цигарками. „Папаша“, пожилой, рыжеватый боец, с худощавым лицом, выдубленным морозом и ветром, сидел лицом к Тарасову. Лицо у него было еще гладкое, только на лбу с морщинами, да две глубокие морщины шли от крыльев носа чуть повыше щетинившихся, понизу прямо постриженных усов. По тому, как он вопросительно глядел на сидевшего спиной к Тарасову бойца, Тарасов понял, что спор шел у него с этим бойцом. Боец этот все молчал, и „папаша“ торжествующе заключил:
— То-то и оно! Вот как не знавши-то судить, что к чему. Да возьми хоть по жизни. В своей-то семье не вдруг разберешься, бывает, а ты ухватился разобрать, что да как во всей России делается. Нос, браток, до этого не дорос, и плаваешь мелко.
Затянувшись неудачно, „папаша“ закашлялся, выругался, прокашлялся и продолжал:
— А что немец захапал у нас столько, так ясно почему: врасплох кинулся на нас. Идешь ты, к примеру, ничего плохого не ждешь, а тебе сзади — раз, раз по башке. Что. будет? Руки плетью у тебя повиснут, и голова кругом пойдет, как ты ни будь силен. Так ведь?
— Как это можно было не видеть, что у наших границ столько их скопилось? — все не сдаваясь, усмехнулся первый боец.
— Ой, какой ты умник, как я погляжу! — с насмешливым удивлением отвечал на это „папаша“ и даже глаза сощурил в усмешке. — Ой, какой умник! А вот ответь мне, отчего здесь, на фронте, все знают, что враг может напасть в любую минуту, и все следят за ним, а он застает-таки врасплох? Ну отчего это мы не видим, что обязаны видеть? Ведь уж тут-то особо бы надо видеть— жизнь от этого зависит.