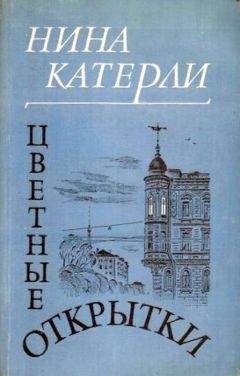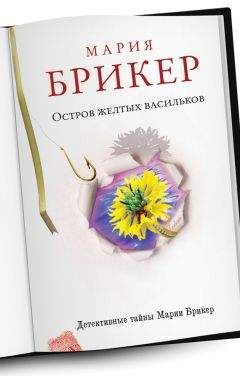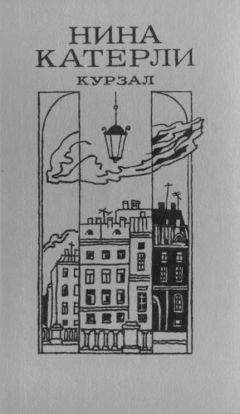Застонав, Дорофеев отшвырнул сон, сел, включил ночник. Четверть второго, всего четверть второго, целая ночь впереди…
А по соседству веселились. За переборкой звучали голоса, вдруг затренькала гитара. Респектабельный вагон, а народ как в студенческом бесплацкартном…
Дорофеев был в своем купе один, верхнее место не заняли. Эти старые «международные» вагоны (полки одна над другой) когда-то выглядели роскошно со своими зеркалами, медяшками и красным деревом. Но в этот раз купе показалось неуютным — какое-то запущенное, ветхое, от дверей дует, и вдовий запах, и тусклота. Отсюда и сон… И он вдруг остро позавидовал тем, за стеной… А Володька только еще добрался до дому, наверняка пошел сперва провожать Ингу.
Разговор с ней получился легче, чем ожидал Всеволод Евгеньевич. Легче-то легче… Передавать дословно свое объяснение с Наташей Дорофеев, разумеется, не стал. Скупо и холодно сказал, что Антон решил попробовать стать взрослым человеком, самостоятельно, без опеки и помощи. Вмешиваться нет смысла — ничего не даст.
Инга слушала молча, и выражение лица у нее было, как у преступника, которому объявляют окончательный приговор. Дорофеев видел ее глаза, впалые щеки, шею, покрытую пятнами, глаза.
Он чувствовал себя последней скотиной. А когда Инга заговорила, стало еще хуже. Покаянным тоном она сообщила, что сегодня все обдумала в деталях, взвесила и утверждает: в том, что случилось с сыном, виновата она, она одна! «Во-первых, все те годы, пока ты… пока мы, Сева, были вместе, я относилась к тебе крайне неправильно, безобразно! Я целиком отдавала себя ребенку, а ты был полностью лишен внимания. Не возражай! Антон не мог этого не видеть, ведь при нем зачастую дискредитировали отца. Это я разрушила нашу семью, Сева, я! Ты ни в чем не виноват, ни на гран! Ладно… Конечно, в последние годы мы с мамой пытались как-то… исправить. Мы постоянно говорили с Антоном о тебе, внушали, что его отец достоин всяческого восхищения и как человек, и как ученый с мировым именем..
«Светило, бог мой…»— с тоской подумал Дорофеев.
— Инга! Ну, зачем теперь…
— Погоди, Сева, не перебивай, я должна объяснить. Знаешь, я даже в день его отъезда напомнила, что мечтаю только об одном — видеть его таким, как отец. Но он… он был сам не свой тогда! Он был безумен! И это все из-за нее, из-за этой Наташи. Мне кажется, Сева, — Инга понизила голос, — из-за нее он… потерял веру в людей. Она страшный человек, поверь, страшный. А ты, Сева, прости, если сможешь…
— Хватит! Слышишь? Хватит!! Все это чушь. Прекрати самосожжение! Володька, скажи ей…
— И правда, ребята, — вмешался Алферов, до того молча стоявший поодаль, — кончайте вы трагедию. Не гневите бога, ведь с жиру беситесь. У других, вон, болеют дети, уж я насмотрелся у себя в клинике. Вот это горе, да. Или пьют. Хулиганы тоже… эти… хиппи… разные. А то еще синдром бродяжничества. Модно сейчас. Тут ко мне одна мамаша недавно сына приводила, здоровый лоб, семнадцать лет. Бросил, мерзавец, школу, гоняет по всей стране на попутках из конца в конец. Этот… автостоп. Пробовали запирать — в окно вылез. С четвертого, заметьте, этажа. Альпинист. Спрашиваю: «Ну, и что хорошего в этой твоей езде? Смысл какой?» — «А вы не поймете, — говорит. — Вам везде утилитарный смысл нужен. А я просто — хочу ездить. Хочу и буду!»
Так никакого толку от него и не добился. И таких сейчас, между прочим, полно. И больных, и здоровых. А у вас? Максималист, может быть, это да. Но я-то лично так думаю: в двадцать лег ты и должен быть максималистом, а не этим… который любой пакости найдет рациональное объяснение. Это уж мы, в нашем возрасте…
— Я его… зализала… — прервала Володьку Инга. Она, похоже, вообще никого не слушала, все время думала о своем. — Я читала где-то: некоторые звери… львицы, кажется, зализывают своих детенышей. До смерти!
Слава богу, по радио объявили наконец отправление.
Когда Дорофеев уже садился в вагон, Инга вдруг засуетилась, полезла в сумку и достала оттуда стеклянную банку. В этой банке, плотно закрытой полиэтиленовой крышкой, он увидел пересыпанную сахаром клубнику.
— Вот, Сева, возьми на дорожку. Бери, бери, рыночная. Мама ходила. У тебя усталый вид.
…Такие банки еще тогда, в той жизни, обязательно брали с собой на пляж. Естественно, для Антона… Яркий день в Комарово, гладкая, голубая без единой морщинки вода в заливе, белый песок, жара.
И трехлетний сын в панаме, надменно восседающий в тени под сосной. Инга, стоя на коленях, кормит Антона с ложки, щеки его и подбородок вдрызг перемазаны клубничным соком, по груди стекает липкий ручеек, и на этот ручеек нацелилась спикировать оса, которую Всеволод бесстрашно отгоняет ладонью…
Стоп-кадр, цветная фотография… Нет, не фотография, открытка — чужие, незнакомые люди изображены на ней, их нет на самом деле, уже нет… Есть другие, похожие, но не они. С каждой секундой открытка отодвигается, становится меньше. Пройдет еще пять, десять, пятнадцать лет, и она сделается величиной с почтовую марку (лиц уже не разглядишь), а потом и вовсе превратится в точку, сверкнет в последний раз и навсегда погаснет.
Но сегодня еще можно, пусть только на мгновение, вернуть тот горячий песок, синее небо над заливом, запах сосны, молодую женщину на песке. И мальчика, перемазанного клубникой.
Стоя на площадке, Всеволод Евгеньевич смотрел из-за плеча проводницы на Ингу с Володькой. Они шли за тронувшимся вагоном, Володька приветственно поднял руку.
Инга, не сводя глаз с Дорофеева, что-то говорила — что — не слышно.
И все-таки Дорофеев понял, что она сказала! Понял не тогда, а вот теперь, сидя на диване в полутемном купе и слушая, как за стеной поют Окуджаву. Слов было не разобрать, доносилась только мелодия, но слова про бумажного солдатика он и сам помнил наизусть.
А Инга… Она сказала Володьке, и тот согласился, кивнул… Надо было ему, гиппопотаму, денег, что ли, в долг предложить, купил бы приличную обувь… Он, конечно, прав: они не хуже, и уж конечно, не глупее нас, тогдашних…
А река, в которую не войти дважды? Лучше сказать — поезд. Вот я погляжу сейчас в окно и увижу черноту. И проехал. А через миг где-то там, в доме путевого обходчика, вспыхнет свет. И тот, кто едет в последнем вагоне, увидит уже не черноту, а освещенное окно…
Всеволод Евгеньевич яростно перевернул подушку, рывком опустил до упора шторку на окне, погасил ночник, лег. Колеса занимались делом: мирно выстукивали что-то свое, сугубо железнодорожное. Вагон покачивало, за стеной всё пели… Уснуть не выйдет, придется с этим смириться. Придется смириться и… и с другим… Жаль, нету сигарет… И не выдумывать лишнего, самобичевание — малоплодотворное занятие. Взять себя в руки! Ночью, на неудобном узком диване на ум сплошь и рядом приходит чистая белиберда… А Марку так и не позвонил… И про подарок тетке забыл, а она будет в руки смотреть, она всегда смотрит, как маленькая…
Он снова сел, нашарил в темноте ручку, приоткрыл дверь. Пение стало слышнее. Без паники! Утром будет солнце, особенная московская сутолока на вокзале, шум, сверкающие, летящие мимо улицы. И пустая квартира. Тихая. И пустая. И опять пойдет привычная, налаженная жизнь. Дом, поездки за город, работа. Да, работа! Как бы там ни было, а этого не отнимет никто… Дом, работа, санаторий… дом, работа… Довольно!
Инга на перроне сказала Володьке вот что: «У него же, кроме нас, никого нет». Да, именно эти слова и сказала, хотя Дорофеев не мог ничего слышать, даже по губам прочесть не мог.
А там всё поют. Сколько их? Двое? Трое? Незнакомое что-то и грустное, а слов все равно не слыхать. Хотя… Да ведь это же та самая песня, которую вчера пел Мурик. Ну конечно, она!
Он встал, натянул брюки, надел туфли, вышел в коридор. За окнами уже светлело.
…И тянется хрупкая нить
Вдоль времени зыбких обочин,
И теплятся белые ночи,
Которые не погасить…
Колеса все стучали, грянул и тут же пропал встречный состав.
…За шпилей твоих окоем,
За облик исчезнувший прошлый,
За то, что, покуда живешь ты,
И мы как-нибудь проживем.
Он быстро прошел в купе, оделся, собрал портфель. Впрочем, спешить-то было некуда — до Бологого два часа с лишним. Дорофеев сунул руку в карман. Листок с адресом сына, который дала ему Наташа, был на месте.
Как он будет добираться до Архангельска, Дорофеев не знал.
Здесь и в дальнейшем стихи Елены Эфрос.
В здоровом теле — здоровый дух (нем.).
Похоть отобрала у тебя твой некогда светлый разум (нем.).