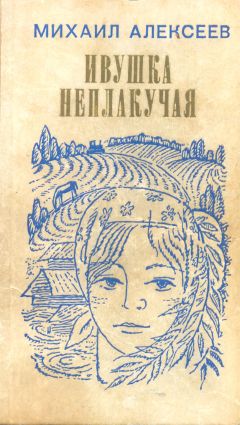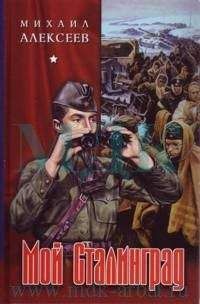Что же касается Петьки и Ваньки, то Паклёников-старший мог бы и не приваживать их к сверхраннему курению, руководствуясь таким странным и неожиданным для односельчан соображением, поскольку тюрьма, как и все прочие средства вразумления непутевых, по ним, его сыновьям, не скучала. Выросли они парнями толковыми, окончили семилетку, вступили в комсомол, выучились на трактористов, в первый год войны пахали, сеяли, убирали хлеб вместе со стариками, женщинами да немногими «бронированными» мужиками, а в сорок третьем упросили командира стоявшей в Завидове воинской части взять их в экипаж «Красного завидовца», танка, купленного на сбережения колхозников. Приняв все меры предосторожности, с тем чтобы его не услышала жена, Максим и сам подключился к этой просьбе. А в начале сорок пятого в далекой Венгрии, под городом Се-кешфехерваром, называть который без запинок, без спотыкания Максим так и не научился, Петька и Ванька сгорели вместе со своим танком и теперь смотрели на отца с увеличенной фотографии, смотрели, и, ясноокие, решительные, словно разговаривали с ним, спрашивали этими отчаянными соколиными глазами: «Ну как, батя, хороши? Ну вот, а ты говорил!»
Извещение об их гибели задержалось в долгом пути и пришло в Завидово уже после победного дня, в середине мая, а Максимова жена Елена, которая каждое утро выходила на дорогу и зорко вглядывалась, не появятся ли на той дороге ее близнецы, узнала о похоронке гораздо позже. Оберегая старуху, с каких уж пор жалующуюся на свое сердце, Максим все тянул, выжидал какого-то особого случая, когда бы такой удар мог быть хоть капельку смягчен и не оказался смертельным для жены. Конверт с извещением находился у него в небольшом кармашке-тайничке, спрятавшемся в многочисленных складках сумки, — в него почтальон обычно помещает извещения о посылках, денежных переводах и другие ценные, малые по размеру бумаги. Не всякий отыщет этот карманчик, но Максим не был уверен, что его тайничок является таковым и для Елены, а потому и оставлял на ночь разносную сумку в сельсовете: в таком случае Елена не могла заглянуть в нее, как заглядывала в карманы его брюк, когда Максим спал. При этом надобно сказать, что, обнаружив на другой день следы сыскных ее «мероприятий», Паклёников не подымал шума, не возмущался, ибо знал, что привычку производить ревизию его карманов Елена обрела не от хорошей жизни и по мужниной же вине, обрела еще в довоенное время, когда Максим стал прикладываться к чарке гораздо чаще, чем дозволялось снисходительною к такому греху деревенской" нормой, и когда, уложив его, «тепленького и полнехонького», в кровать, она принималась за дело, обшаривала карманы, выворачивала их, проверяла все другие складки на штанах, при редкой удаче выгребая из них либо уцелевшие каким-то чудом, либо специально припрятанные деньжата. Дома Максим не бунтовал, но, придя в «потребиловку», начинал всенародно обыскивать себя, тщательно, как старатель, исследуя те же места, по которым раньше него пробежали проворные и зоркие пальцы жены. Отчаявшись, горько жаловался: «Словно Колчак, прошлась по штанам, все очистила. Хорошо помню, что рупь под ошкур засунул, утречком, думаю, на похмелку как раз будет, — так нет же, вымела, языком вылизала, проклятущая! Ей бы только сыщиком при угрозыске быть!»
«Ищи, ищи хорошенько, Максим!» — вдохновляли его мужики, с молчаливой усмешкой наблюдавшие за возней своего старшего компаньона, наперед зная, как знал об этом не хуже ихнего и сам Максим, что его. поиски не увенчаются успехом и что вдохновителям придется снова поправлять голову страдальца на свои гроши, в наличии которых никому до поры до времени не хотелось бы сознаваться. Первым не выдерживал, как правило, Апрель. Сокрушенно вздохнув, он погружал руку по самый локоть в глубочайший свой карман и вычерпывал оттуда истертую бумажку. «Видно, уж мне придется нынче вас угощать!» — говорил он медленно и важно. Радостно оживившись, кто-нибудь обязательно замечал: «Давай, Апрель, угощай, тут у тебя конкурентов не будет!»
Ну, все сказанное выше — это сказано лишь к слову. Для Максима же в конце концов надо было сообщить жене о полученной им и схороненной в почтальонской сумке страшной бумаге. Он, как известно, и прежде страдал, сильно маялся душой, когда нес ее, черную, в чужой дом. Теперь же его муки оказались во сто крат большими, день ото дня сумка его становилась все тяжелей, давила будто не на плечи, а на сердце, и в какой-то час сделалась совсем неподъемной. Подходящего, однако, случая, который мог бы немного ослабить удар, — Максим понимал, что рано или поздно, но вынужден будет обрушить его на жену, — такого случая что-то не оказывалось. И вот однажды, черный весь, похожий на большую головешку со свежего пожара, с провалившимися глазами и щеками, пришел к обеду домой, присел к столу, на котором дымилось большое блюдо со щами, зачерпнул деревянной ложкой тех щей, понес ко рту, на полпути раздумал, выплеснул хлебово обратно, после чего ложка сама выскользнула из его ослабевших, задрожавших безвольно пальцев, — тяжело поднялся, ватными ногами сделал несколько шагов к стене, где только что повесил сумку, снял ее и, пряча налившиеся влагою глаза от жены, заговорил: «Мать, слышь-ка… Ты только…» Не дала договорить, закричала жутким голосом. Крик ее выметнулся на улицу, вихрем подхватил каких-то баб, кинул их на Максимово подворье…
— Да, мои Ванюшка и Петяшка лежат теперя гдей-то на чужой сторонке, — вздохнул Паклёников, — и могилку их не проведать, да сохранилась ли она, та могилка? Сам воевал в первую германскую, знаю, как хоронят нашего брата на позициях — где упал, там и прикопают, попробуй потом найти… А Елена до сих пор житья не дает, пиши, говорит, самому Сталину, чтобы пропуск дали в Венгрию. Грозится пешком пойти в энтот Шехер… мехер… Язык, говорит, до Киева доведет. Пробовал образумить старую. Куда ты собралась, Елена?! Ты ить дале нашего районного поселку отродясь не ездила, а тут — заграница! Язык у тебя, говорю, в полной исправности, это правда, а в ногах-то нету прежней резвости. Вон в Салтыкове, за три версты, к своей се-стре дойтить не могешь, куда ж тебе… — Максим опять тяжко, с прихлипом, вздохнул. — Ведь я, Сережа, чуть отходил ее тогда. Цельну неделю пролежала ни жива ни мертва, кормил ее с чайной ложечки, хлебушка в соску нажевывал, как малому дитю, чтобы как-то удержать ее на белом свете, — без нее, Елены моей, признаюсь тебе, Серега, и мне бы не жить, не топтать травы-муравы на наших завидовских тропках. Слава богу, выходил, вернулась баба к жизни, спасибо Степаниде Лукьяновне, целыми ночами просиживала возле моей старухи добровольной сиделкой… Поднялась Елена, все бы ничего, а вот на ноги совсем слабой стала…
Максим рассказывал, а слушавший его Сергей Ветлу-гин искал и не мог пока найти ответа на вопрос, вдруг вставший перед ним. Он помнил, что до войны Максим Паклёников слыл в Завидове выпивохой и по этой причине не занимал в отличие от большинства завидовских мужиков даже самой малой руководящей должности в колхозе. В то время никому бы и в голову не пришло, чтобы доверить такому человеку денежные дела, а теперь вот доверили. Что же случилось с Паклёниковым? Может, остепенился? Может, война не только убивает и калечит, но и кого-то исцеляет? Что-то мало похожа ода на исцелителя…
Заглянув глубоко, как, бывало, заглядывал в деревенский колодец, в совершенно трезвые, родниковой чистоты, ясно мерцающие из-под наволочи густых, сомкнувшихся над переносьем бровей глаза старика, спросил напрямик:
— А водочку-то пьете, дядя Максим?
— А куды от нее денешься, — быстро и спокойно сказал Паклёников.
— И что же, много ты ее…
— Вижу, Серега, ты про прежние годы вспомнил, когда мы с твоим отцом… Теперя не то. Годы бегут, а с ними и силенки убывают. Спрашиваю днями Николая Ер-милыча, дядю Колю то есть, спрашиваю, значит: «Тебе, Ермилыч, когда бывает тижелыне — в гору аль под гору?» А он мне: «Знаешь, Максим, теперь все едино — что в гору, что под гору: так тижало и так тижало». — «Ну, — говорю, — в войну-то ты вроде прямее был». А он мне: «Война ково хошь выпрямит. А сейчас с какой стати мне выгипаться — старик должен быть стариком. Годы, они что тебе пудовые гири, любого к земле прижмут. И ты, Максим, растешь в обратную сторону…» Ермилыч прав: тут, Сережа, не до жиру, быть бы…
Да и должности мои не дозволяют: все время при финансах. Пропустишь иной раз лампадку — не без того, принесешь в какой дом радость в конверте, в ответ тебе стакан самогону — попробуй откажись, обидишь хороших людей до смерти… А так — ни-ни, ни боже мой! — Максим вдруг замолчал на минуту, глянул на Ветлуги-на, спохватился: — Я, кажись, совсем заговорил тебя, Сережа, ты уж прости старого брехуна — ни речи, ни мочи уж не могу удержать, такие теперь мои лета. А ты так и не попал на заседание. Кончилось, видать. Слышь, все поднялись? Сейчас выходить начнут… Ты бы, сынок, заглянул к нам на часик. Я еще не накалякался.