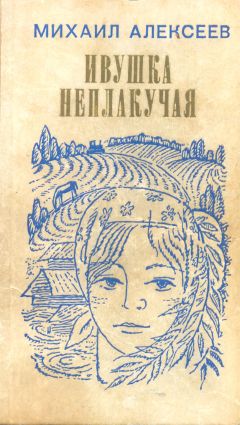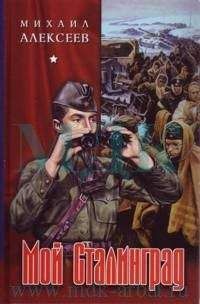Знобин уехал.
Леонтий Сидорович пригласил к себе дядю Колю, Апреля, Шпича и Точку, весьма кстати выглянувшего из своего сельсоветского кабинета в самую последнюю минуту. Максим Паклёников примкнул к компании без всякого приглашения, полагая, очевидно, что он имеет на это полное право, поскольку первым встретил офицера и в течение целого часа занимал его своими рассказами. Потопал было вслед за всеми и Тишка, да остановился на полпути: ему явно не хватало вдохновителя, а именно Пишки, который в таком разе повел бы себя куда решительнее, но Епифан еще вчера уехал в Саратов заказывать протез для своего глаза. Постоял на одном месте Непряхин, потоптался, как всегда, в затруднительную минуту, поскреб у себя в затылке, вздохнул неприкаянно, повернулся и медленно поплелся в сторону своего дома, где его, как всегда, ожидало множество разных мелких дел: надо было наколоть дров, да посуше (жена затеяла полную квашню хлебов, поутру станет выпекать), вычистить хлев, застелить его соломой, поднять плетень, сваленный ночью мирским бугаем, припожаловавшим на свидание с Тишкиной коровой, которая, к великому огорчению хозяина, вспоминала о женихе почему-то с большим опозданием; ждали в чуланчике и два тракторных карбюратора, в которых Тишка собирался поковыряться со слабою надеждой вернуть их к жизни; ждали его и малые дети, которым привез из района по одной конфете, да не успел передать — теперь сладкие эти штуки медленно плавились в глубоком и теплом Тишкином кармане, постепенно утрачивая не только форму, но и свойственные им благовония и взамен обретая ни с чем не сравнимый и никакими иными запахами не сокрушаемый дух самодельной, махры, давно и безраздельно господствовавший во всех складках Тишкиных штанов.
Гася неприятно шевелившуюся на сердце зависть к тем, кто скрылся в председателевом доме и теперь рассаживается за гостеприимным угрюмовским столом, Тишка мысленно начал уж похваливать себя за то, что повернул к дому, что сейчас вручит детям гостинцы и займется домашними делами под молчаливым (чтоб не спугнуть его!) и радостно удивленным взглядом Антонины; он уже прикидывал, за какие дела примется в первую очередь, и прибавил было шагу, когда путь ему преградил лесник Колымага.
— Здорово, Тимофей! — приветствовал он Тишку как-то очень поспешно.
— Здорово, коль не шутишь, — хмуровато отозвался Непряхин, вспомнив, очевидно, про то, что топор и пила, отобранные у него Колымагой месяц назад, до сих пор еще не возвращены.
— Ты, никак, из правления?
— Из него. А что? — спросил теперь уже Тимофей, впервые приметив на лике грозного стража местных лесов что-то вроде испуга или тщательно скрываемой растерянности.
— Ну что там? — маленькие глазки Архипа Архиповича беспокойно сверлили Тишку, ожидая чего-то.
— Аль не знаешь! Все то яге. Хлеб. Мясо. Шерсть. Яйца.
— Никак, Знобин наведывался?
— Был. Только что проводили.
— Ну и что он… О чем?
— Да обо всем. Тебя-то, Архип, что тревожит? Лес твой как стоял, так и будет стоять.
— Да не о том.
— О чем же?
— Ну те к лешему! — рассердился почему-то Колымага. — Ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. Бывай, Тимофей!
— Бывай, Архип Колымажевич, Архипыч то есть. А топоришко-то пора вернуть бы мне. И пилу тоже.
— Приходи ужо. Потолкуем. Теперь мне пеколи с тобой. Будь здоров! — И лесник, поправив на большой своей, наполовину оплешивевшей голове форменную, с кокардой фуражку, прямиком подался к дому Угрюмовых, обстреливаемый с тылу недобрым взглядом Непряхина.
Сказать правду, не так уж и печалился Тигака по поводу утраченных им топора и пилы, он бы плюнул и махнул на них рукой, как не раз делал и при более серьезных утратах; обидно было то, что Колымага числился у него, Непряхина, в друзьях, во всяком случае, частенько уверял Тимофея в этом, не озаботясь, однако, подкрепить свои устные заверения какими-либо практическими делами. Тем не менее Тишка даже гордился, что находится на короткую ногу с таким важным и значительным человеком, в подходящий момент не прочь был похвастать этим, а однажды чуть было не поскандалил с Апрелем, когда тот обронил: «У иных, Тиша, черти лучше, чем у тебя друзья». Выходит, Апрель прав, дружки-приятели Тишкины действительно того, с изъянцем — взять хоть Пшнку аль этого лешего, Колымагу, ну, что ему стоило сделать вид, что не приметил у Дальнего переезда Тишку с возком хвороста, под которым укрывались всего-навсего два дубовых кругляша, заготовленных Непряхиным для починки колодезного сруба, для ремонта того самого колодца, из коего черпает воду чуть ли не полсела, в том числе и он, Колымага?!
«Пусть подавится моим струментом, а на поклон к нему не пойду. Не на такого напал. Знаю, чего он дожидается. Но я ему не Машуха Соловьева — пол-литра не поставлю. На мне где сядешь, там и слезешь. Ишь ты — «ужо приходи, потолкуем!». А вот этого не хошь? — промасленные на веки вечные Тишкины пальцы с удовольствием переплелись и ловко изобразили известную фигуру. — Непряхин Тимофей ни у кого еще в ногах не валялся. Так что не жди — не дождешься!»— решил про себя Тишка и, еще более зауважавший себя за столь непреклонное и принципиальное решение, быстрехонько направился домой. Знай он, что происходило сейчас в председателевой избе, то еще выше оценил бы несомненную мудрость своего поступка.
Большой, семейный, хорошо выскобленный кухонным ножом и старательно вымытый стол был загодя накрыт, уставлен погребными припасами, а на шестке, в огромной, как поднос, сковороде что-то пошипливало, должно, картошка, сдобренная двумя, а может, и тремя яйцами, схороненными Аграфеной Ивановной от зоркоокой Катеньки и не менее шустроглазого Филиппа. Сковорода покинула шесток и оказалась посреди стола, дорисовав окончательно его великолепие, когда торчавший у окна внук провозгласил: «Бабаня, они идут!» У старой хозяйки хватило еще сил на то, чтобы отнести поджаренную картошку и водворить ее на положенное место, но затем руки ее безжизненно обвисли, а ноги подогнулись, — поддерживаемая младшей дочерью и внуком, она с трудом добралась до широкой лавки и рухнула на нее всем своим тяжелым, обмякшим телом. Живыми остались лишь одни ее глаза — сухие, воспаленные, немо и исступленно вопрошающие. Они-то, эти глаза, и остановились на одном только человеке из всех вошедших в избу — на Сергее. В них он прочел и вопрос, и горячую материнскую мольбу одновременно: «А где же Гришенька? Где же сын мой? Ведь он живой, живой! Скажи же скорее — живой?»
Сергей быстро подошел к ней, присел рядом, привлек седую ее голову к своему плечу и, ничего не говоря, поцеловал. Все, кто был в доме, — Леонтий Сидорович, Феня, Авдей, дядя Коля, Апрель, Санька Шпич, Точка, Максим Паклёников, пришедший чуток позже Архип Колымага, — все теперь стояли посреди избы, не зная, куда себя деть и что надо делать в таком случае; никто не мог в эту минуту не то чтобы сесть за стол, но и глянуть на него. А покрытые густою сеткой красных прожилок глаза хозяйки уже начали наполняться влагою, две крупные капли уже медленно ползли по щекам.
— Ты вот что, Сережа, — первым, как и следовало ожидать, заговорил дядя Коля, — ты скажи ей всю правду. Так-то будет легче, чем всю жизнь понапрасну ждать. Убит ежели, так и скажи…
Теперь глаза Аграфены Ивановны обратились на старика, и была в них такая ярость, такая лютая ненависть, что тот сейчас же замолчал и в замешательстве начал оглядывать всех, как бы ища поддержки. Но его выручила сама же хозяйка, вновь повернувшая лицо к Сергею:
— Правду ли нам писали… правду ли? — умолкла, тяжело задышала.
— Правду, Аграфена Ивановна, — сказал Сергей тихо, но слова эти были услышаны всеми, и на какое-то время звенящая тишина воцарилась в избе. Неожиданно для всех Аграфена Ивановна поднялась над этой тишиной, над всем этим невыносимым напряжением, повернулась к образам, встала на колени и долго, под молчаливыми, встревоженно недоумевающими взглядами гостей молилась. Затем медленно встала, суровым, отвердевшим взглядом обвела всех, сказала громко и как-то даже торжественно:
— Ну, что же вы, мужики, стоите? Садитесь за стол. Помянем сыночка нашего по-христиански. Левонтий, приглашай!
— Садитесь, мужики. Николай Ермилыч, Санька, Артем Платоныч, Виктор Лазаревич, Максим, Архип Архипыч… ну, чего же вы стоите? В ногах правды нету. Прошу, прошу вас… — Леонтий Сидорович приглашал, а глаза его тоже были красны, и он все время вытирал их, по возможности так, чтобы не видели гости. — Мать, веди Серегу. Садитесь, а ты, Фенюха, угощай нас… Мать, ты куда же?
— Я в горенке побуду. Мне одной надоть. — И Аграфена Ивановна ушла в переднюю. Под взглядом отца туда юркнула и догадливая Катенька, а потом и Филипп.
Все уже сидели за столом, Феня и помогавший ей Авдей разлили по стаканам самогон, а хозяин все чего-то ждал, не садился, топтался неловко на месте и, наконец решившись, подошел к Ветлугину.