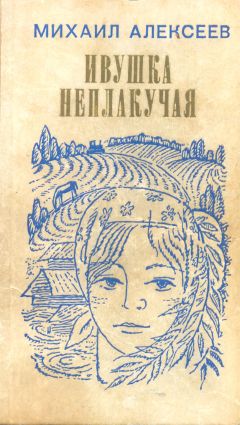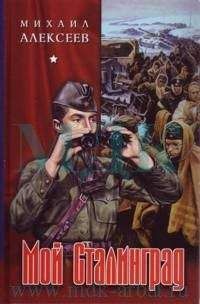Мы ить с твоим отцом, бывало…
За председателевой дверью зашумели, задвигали стульями и скамейками, заговорили почти все разом, не успев разрядиться до конца во время заседания. Сперва Сергей отчетливо различил характерный, постоянно сдерживаемый, как бы виноватый кашелек Знобина, затем послышался давно знакомый густой бас Леонтия Сидоровича Угрюмова, вокруг которого закручивались повиликой женские, требующие чего-то голоса, натыкаясь по пути — и оттого еще более воспламеняясь — на беззаботный Тишкин хохоток, и совсем умолкали, когда наперерез им подымался старческий, с присвистом на конце фразы баритон дяди Коли, и вновь протестующе звенели, когда высовывался со своими замечаниями Санька Шпич, по несчастью для себя обладающий тем редким голосом, когда один его звук сообщает собеседнику мгновенное и острое желание возражать, перечить, протестовать, не соглашаться ни с чем из того, что бы тот ни говорил, отвергать, оспаривать даже очевидно бесспорные, вполне логичные его доводы. Беда владельца такого голоса состоит в том, что сам он не в силах понять, почему с ним не соглашаются, когда он говорит безусловно разумные вещи, и, горячась, пытается подойти к своим мыслям с иного конца в надежде примирить с ними спорщика, но вызывает лишь еще большую ярость последнего, который, не выдержав, закончит тем, что попросит почти с мольбою: «Да замолчи ты, ради бога, не то ударю!» И Санька Шпич, ежели речь идет о нем, остановится на полуслове в крайнем недоумении, беспомощно мигая своими длинными, как у теленка, белесыми ресницами. Сейчас он, судя по всему, и пребывал как раз в таком положении, потому что, выйдя в коридор вслед за Апрелем, явно удиравшим от него, хватал старика за пиджак, старался таким образом задержать и все-таки убедить. Сопротивляясь, Апрель встряхивался весь, точь-в-точь как встряхивается всей кожей лошадь, когда ее одолевают слепни, и, свирепо вращая окровепившимпся белками своих вообще-то добрых глаз, шипел сквозь редкие зубы:
— Сань, милай, отвяжись!
— А вот и не отвяжусь! — кричал Шпич. — Ты, Артем Платонович, должен в конце концов понять, что сейчас нам не до твоей картошки, хлеб, еще на поле, кто же тебе даст быков. Картошке в земле ничего не сделается. Полежит еще с месяц, а хлеб…
— А картошка, по-вашему, не хлеб?! — злился Апрель и опять настойчиво просил своего преследователя: — Отстань от меня, нет моей моченьки слушать тебя!
— Я замолчу, но прежде хотел бы услышать от тебя: прав я или нет?
— Умру, а не соглашусь с тобой, Санька!
— Это почему же?
— А черт ее душу знает, — чистосердечно признался Апрель, впервые натолкнувшись на такой вопрос, но, подумав, попытался объяснить: — Как те сказать, Саня… Вот когда ты помалкиваешь, ты мне больше по душе. А как только отверзнешь уста, заговоришь, у меня мороз по коже, точно кто серпом по энтому месту… Да ты не серчай, я ить правду говорю, другой тебе ее не скажет, потому как ты, Саня, большая шишка на селе. Слушал я тебя. сейчас на правлении, а самого так и подмывало подойтить и заткнуть тебе рот. Так что отстань, ради господа бога, от меня со своими речами. Сыт я ими по горло!
— Но я же прав…
— Ты завсегда прав, Шпич, и все-таки отвяжись!
Однако спорщики унялись только тогда, когда увидали рядом с Максимом Паклёниковым офицера, кото-рьш смотрел на пих и, улыбаясь, терпеливо ожидал окончания дуэли. Минутой позже, узнав Сергея, не соизмеряя своих сил, они трясли за плечи, толкали с обеих сторон в бока, словно испытывали на прочность его ребра, — особенно доставалось одному правому ребру, под которое поддевали два негнущихся Санькиных пальца. Свои действия Шпич и Апрель сопровождали обычными в таких случаях междометиями:
— Ну и ну!
— Эх, паря!
— Скажи на милость!
— Вот это да!
К спокойным расспросам так и не подошли, поскольку из кабинета председателя вышел Знобин, а за ним и все остальные: Леонтий Сидорович, не успевший убрать со своего лица строгую озабоченность; почти впритык к нему — дядя Коля, комкавший в руках старенькую, полувоенного образца фуражку — любимый и чуть ли не обязательный головной убор председателей колхозов, сельсоветов, директоров предприятий и прочего начальствующего люда в границах района; к дяде Коле фуражка эта перешла вместе с казенной печатью и всеми прочими правленческими и колхозными делами от Леонтия Сидоровича, когда тот уходил на фронт, а по возвращении не потребовал ее обратно, видел, как приладилась она к дяде Колиной голове и как необходима его рукам, когда хозяин не знает, чем их запять. Последними кабинет покинули Настя Волыюва — теперь Шпичиха— и Феня Угрюмова, которую позвали в правление, едва она вернулась домой; впереди себя они подталкивали упиравшегося малость Тимофея Непряхина, награждая его легкими тычками в спину, из чего можно заключить, что между Непряхиным и этими молодыми женщинами не до конца разрешен какой-то вопрос. С круглого лица Насти еще не сошла краска смущения: десятью минутами раньше она заговорила о ремонте клубного помещения, но наткнулась на тяжелый и холодный взгляд председателя, который, не ограничившись одним этим взглядом, присовокупил к нему слова, каковые и придавили Настю, как глупого котенка: «Клуб? Может, дворец тебе выстроить, а колхозная скотинешка пускай так и стоит по брюхо в грязи, а избы солдатских вдов так и остаются раскрытыми? Видал, чего ты захотела! Ай-ай-ай-ай! Ну и комсомол!» На вмиг сваренном Настином лице выступили бисеринки пота, готовы были выскочить и слезы, но их остановил Федор Федорович Знобин, заметивший строгому председателю: «Зачем же так, Угрюмов! Ну, поторопилась девчонка — эка беда. Пройдет год-другой, мы сами от тебя потребуем того же, а попозже и дворец станет на повестку дня… Кто это хмыкнул? Вы, Непряхин? Не верите, значит? Зря! Может, поспорим? Ну, по рукам?!» Тишка спорить не стал, сославшись на то, что ни в какой еще игре его ни разу не посещала удача, добавив к случаю, что и ни на одну из его облигаций не выпадал хотя бы самый пустяшный выигрыш. «Подписываемся с моей Антониной на все займы аккуратно, нас даже Максим Паклёников в пример другим ставит, а как начнем проверять таблицу — одни нули, — пожаловался он, торопясь соорудить цигарку, — так что вы уж меня, товарищ секретарь райкому, увольте от ваших споров. Вон Епифана, дружка моего, пригласите, он любит поспорить; А я невезучий, хотя в разные там дворцы, извините меня, темного человека, не верю. Может, лет через сто…» Все, кто был в правлении, невесело засмеялись. Засмеялся, откашливаясь, и сам Знобин, подумав: «А не хватил ли я лишку насчет того дворца?» Насте же эта поддержка главного районного начальника была как нельзя кстати, молодая Шпичиха успокоилась, а вот теперь ей захотелось немного побаловаться — она подталкивала вместе с Феней в спину этого Фому неверного, Тишку. В прихожей Настя немедленно присоединилась к тем, кто окружил Сергея Ветлугина, и ушла из правления лишь тогда, когда Леонтий Сидорович увел капитана на правленческий двор, чтобы попрощаться С Федором Федоровичем.
Тогда Ветлугин хотел и не мог отвести своих глаз от лица Знобина, не мог при этом отделаться от мысли, что кто-то долго и тщательно натирал это лицо золою — ни кровинки не чуялось под сухой и серой кожей, и было странно и горько видеть, что, мертвое, оно еще улыбалось, что в больных, бесконечно усталых глазах временами вспыхивали живые золотистые огоньки, а меж почерневших, сморщенных тонких губ влажно блестели ровные крепкие белые зубы. Но когда Знобин заговорил с ним, Сергей сейчас же забыл о том, что перед ним человек, давно приговоренный к смерти страшным своим недугом.
— Победили, значит? — Федор Федорович глянул на Сергея, улыбнулся, помолчал, затем вновь стал хмурым и серьезным. — Да, победили! Но, товарищ Ветлугив, Девятое мая — это победа для всей страны. Теперь от нас зависит, чтобы она стала победой для каждого советского человека. Только в этом случае мы сможем сказать: да, мы победили, победили стратегически и политически во второй мировой войне! Пока что мы одержали лишь военную победу. Понял?
— Что-то не очень, — признался Сергей, чувствуя, однако, что в словах секретаря кроется нечто очень важное и тревожное.
— Не понял? Ну что ж. Значит, не мог сказать яснее. Под старость что-то философствовать частенько стал. Поживешь немного тут с нами, сам сообразишь, что к чему. Будешь в районе — заглядывай.
Знобин уехал.
Леонтий Сидорович пригласил к себе дядю Колю, Апреля, Шпича и Точку, весьма кстати выглянувшего из своего сельсоветского кабинета в самую последнюю минуту. Максим Паклёников примкнул к компании без всякого приглашения, полагая, очевидно, что он имеет на это полное право, поскольку первым встретил офицера и в течение целого часа занимал его своими рассказами. Потопал было вслед за всеми и Тишка, да остановился на полпути: ему явно не хватало вдохновителя, а именно Пишки, который в таком разе повел бы себя куда решительнее, но Епифан еще вчера уехал в Саратов заказывать протез для своего глаза. Постоял на одном месте Непряхин, потоптался, как всегда, в затруднительную минуту, поскреб у себя в затылке, вздохнул неприкаянно, повернулся и медленно поплелся в сторону своего дома, где его, как всегда, ожидало множество разных мелких дел: надо было наколоть дров, да посуше (жена затеяла полную квашню хлебов, поутру станет выпекать), вычистить хлев, застелить его соломой, поднять плетень, сваленный ночью мирским бугаем, припожаловавшим на свидание с Тишкиной коровой, которая, к великому огорчению хозяина, вспоминала о женихе почему-то с большим опозданием; ждали в чуланчике и два тракторных карбюратора, в которых Тишка собирался поковыряться со слабою надеждой вернуть их к жизни; ждали его и малые дети, которым привез из района по одной конфете, да не успел передать — теперь сладкие эти штуки медленно плавились в глубоком и теплом Тишкином кармане, постепенно утрачивая не только форму, но и свойственные им благовония и взамен обретая ни с чем не сравнимый и никакими иными запахами не сокрушаемый дух самодельной, махры, давно и безраздельно господствовавший во всех складках Тишкиных штанов.