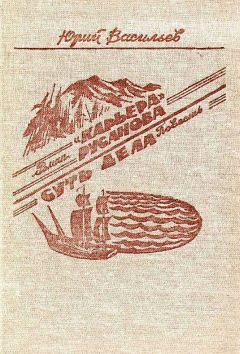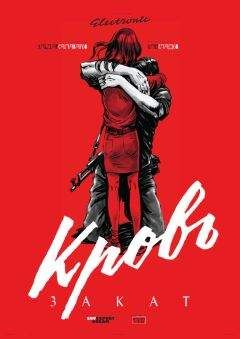— А что Коля ответил? — нагло спросил Гусев. — Вы ему показывали?
— Во-первых, я почитаю субординацию, Владимир Васильевич. Во-вторых, Карпов принимает сейчас делегацию из Вьетнама, и соваться к нему со своей арифметикой я счел бестактным.
Балакирев с минуту изучал листок, подсунутый ему Пряхиным.
— То-то и оно, что арифметика… Заманчиво! Ох, Павел Петрович, хорошо живется экономистам. У них — объективные законы, у нас — объективные причины… Коляски-то нет! Нет ее, Павел Петрович, а мы уже денежки считаем и людей готовы облагодетельствовать. — Он повернулся к Гусеву. — На чертежи — две недели. А в натуре, чтобы пощупать?
— Это как с экспериментальным участком договорюсь, тесновато там. Если подвинутся, за месяц уложусь.
— Они подвинутся… Значит так. Принимаю решение. Предварительное. В июле в Хабаровске будет зональная выставка, она же ярмарка, съедется половина Сибири. Можно будет кого-нибудь изловить, заинтересовать, а это уже коммерция. Но чтобы крючок был золотой! Нужен готовый, отлаженный, вылизанный экземпляр, технологически безукоризненный. Тогда и в главке можно будет разговаривать, и выше. — Помолчав немного, добавил: — Задача по зрелом размышлении безнадежная, но товарищ Гусев не дает нам времени на зрелое размышление. — Он посмотрел на Калашникова. — Ты хотел что-то добавить?
— Не добавить, а продолжить, вы меня перебили. Гусев обещал подумать о сквозной бригаде, но ему, конечно, некогда, у него загорелось. Мы с Ужакиным на профсоюзной конференции не знали, куда со стыда деваться. Плетемся в хвосте! Собираемся продукцию осваивать, которой и в помине нет, а дело, требующее к себе первоочередного внимания, — в загоне! После этого надеяться, что нас кто-то поддержит, просто глупо. Кому-кому, а тебе, Владимир Васильевич, это должно быть понятно в первую голову — ты не только новую технику внедрять призвав, но и все новое, что рождено творческой инициативой, потому что само по себе ничего не делается, нужен толчок, стимул. Лидер, в конце концов!
«Бревно, — думал Гусев. — Такое бревно, если поперек ляжет, его не обойдешь, не объедешь. Руками, ногами, зубами в тебя вцепится. Он — всесилен, потому что тренирован с детства: еще в пионерах, небось, когда макулатуру собирали, он мог убедить Толстого в утиль сдать, лишь бы его отряд в Артек поехал, а кто против — тому по шее! Загрызет. Не по злобе, не по скудоумию — по привычке…»
— А чего ты, собственно говоря, кипятишься, — неожиданно для себя сказал Гусев. — Можно подумать, я упираюсь. Идея хорошая, жизнеспособная, полностью поддерживаю. Остается найти под нее достойного человека, лидера, как ты говоришь.
— Вы это… серьезно? — спросил Балакирев, и Гусеву почудилось в его тоне недоумение. — Серьезно так считаете?
«А то ты не знаешь, как я считаю, — все еще брыкался про себя Гусев. — Я считаю так же, как и ты, и оба мы будем делать то, что считают правильным другие, те, кому видней…»
— Вполне серьезно. Кому-то надо начать. Думаю, что лучшая кандидатура — Черепанов. Он согласен.
— Он же в санатории! — удивился Калашников.
— Мы с ним говорили перед отъездом. — Гусев почувствовал, что сейчас он готов реорганизовать весь завод, всю отрасль, мобилизовать все мыслимые и немыслимые ресурсы. — Он скоро вернется, и тогда, в более широком кругу, мы все обсудим. Лучшей кандидатуры не найти!..
Гусев с Пряхиным вместе вышли из кабинета.
— За Сережу вы напрасно расписались, — сказал Пряхин. — Не думаю, чтобы он на это пошел.
— Какая разница, — устало проговорил Гусев. — Не Черепанов, так кто-нибудь другой. Не все ли равно…
Конец апреля. Снег начинает оседать под взбалмошным весенним солнцем, но еще держится, даже поскрипывает по утрам свежим вафельным скрипом; лыжи, если подобрать мазь, легко скользят по наезженной колее. Отдыхающие щеголяют наимоднейшими свитерами и куртками, а иные, опершись о палки, позируют перед объективом в одних шортах: солнце в эту пору за несколько дней наводит загар не хуже, чем в Гаграх.
— Напечатают такую фотографию на обложке «Огонька», посмотрит высокое начальство, как голые северяне по снегу бегают посреди роскошной природы, и поснимают нам все надбавки, — сказал лыжный инструктор, сопровождавший отдыхающих на прогулке. — Неосторожно, знаете… — Он обернулся к Черепанову. — Ну что, нашли свои часики?
— Да где их найдешь? Снег рыхлый, провалились и баста — концов не сыщешь.
— Жаль, хорошие были часы. «Сейка», по-моему?
— Это меня жалеть надо, — скорбно сказал Черепанов. — А их-то чего? Они же водонепроницаемые, завод у них на год, лежат где-нибудь себе преспокойненько и тикают. Райская жизнь!
Инструктор юмора не понял, но рассмеялся: он любил, чтобы у отдыхающих было хорошее настроение.
— Легкий вы человек, — сказал он. — Завидую…
«Много ты знаешь, — подумала Наташа. — «Легкий, тяжелый». Я уже третий месяц к нему как прикованная, а что я о нем знаю? Ничего не знаю, кроме того, что люблю…»
Она никогда не бывала ни в доме отдыха, ни в санатории. Режим ее тяготил. Сейчас послушно встает ни свет ни заря, делает гимнастику, ест завтрак из трех блюд, мается на терренкуре, давится за обедом протертыми овощами… Она делает все, что делает Черепанов; ей нравится все, что нравится ему; она видит, что растворяется в нем, теряет индивидуальность, но особого ужаса при этом не испытывает.
Она прожила двадцать восемь лет, у нее были романы — скоротечные, на современный манер, была семья, которую она опекала и за которую чувствовала себя в ответе, была работа; все было устоявшееся, не сулившее ничего нового, да и, по совести говоря, ничего нового она не ждала и не желала… Появился Сергей. Все остальное куда-то разом отодвинулось, стало малозначительным. Разве это возможно? Это есть, и это ее тревожит. Что дальше? Два человека, отмерившие половину жизни, люди со своим миром, со своими привычками: читать или не читать на ночь, ехать летом на курорт или снимать дачу; люди, приученные беречь в себе свой, отгороженный от всех закуток и быть уверенными только в себе, — эти люди вдруг начинают жить под одной крышей, наплевав на многотомные исследования о человеческой совместимости, и удивительно в этом не то, что они время от времени разводятся, — удивительно, даже необъяснимо, как они продолжают жить дальше, любить и уважать друг друга, несмотря на то, что он разбрасывает окурки по всему дому, а у нее подгорает молоко…
Когда-то она, пусть нелепо, никчемно, но все же сумела уйти от человека, с которым готова была связать судьбу. Сейчас ей кажется, что если Сергея не будет, то жизнь и вправду превратится лишь в форму существования белковых тел, как их учили в институте… «Представительный», — говорят о нем. «Красивый мужик», — ахают подруги. Она смотрит на уставшего, с ввалившимися щеками Сергея, у нее внутри тихое спокойствие, никакой музыки, просто уверенность или, может, надежда на то, что судьба отнеслась к ней справедливо. Можно подойти и сказать: «Мне хорошо! Я счастлива!» — и он поймет, можно сказать: «Мне плохо! Выслушай меня!» — и он не станет шарить по сторонам поскучневшими глазами, выслушает, поможет, и тогда сразу перестанет быть плохо… Как это иногда нужно! Сейчас неприлично быть несчастным, слабым, сегодня в цене душевный комфорт, постоянная готовность бежать стометровку и преодолевать барьеры…
Может быть, в этой ее неуверенности, в неумении раз и навсегда навести порядок в душе и больше туда не заглядывать он и хотел разглядеть ее несовременность?..
А современность — в чем она? Существует ли?.. Она подумала о племяннице. Оля взрослеет на глазах. Это ее радует и пугает. Надоели акселераты, недоросли, бездумные шалопаи, но жить пятнадцатилетнему взрослому человеку трудней, чем им. Пятнадцатилетний капитан — всего лишь красивая метафора, а тут постоянные, изо дня в день вопросы, на которые надо ответить сразу, иначе просто нельзя. Мы говорим себе: «плевать!», машем рукой: «что делать», мы привыкли быть взрослыми, всепонимающими, защищенными спасительным «такова жизнь», и это свое нежелание, а может, и неумение задумываться выдаем за приходящую с годами мудрость… В возрасте, когда черное непременно должно быть черным, а белое — белым, человек все настойчивей спрашивает: почему их сосед, знающий наизусть Лермонтова, валяется пьяным в подъезде, почему недавняя подруга, победительница шахматной олимпиады, оказалась в колонии за избиение одноклассницы, почему горластый и сверхидейный секретарь днем носит комсомольский значок на скромной курточке, а вечером в баре обвешивается металлическими бляхами и крестами — на все эти вопросы ни отец, ни тетка не могут ответить. И она ищет ответы сама, от ее вопросов, а чаще — от ее молчаливого, вопрошающего взгляда делается не по себе…