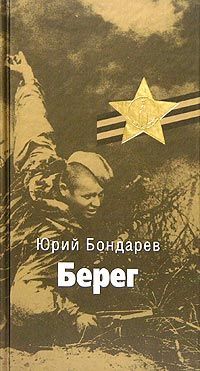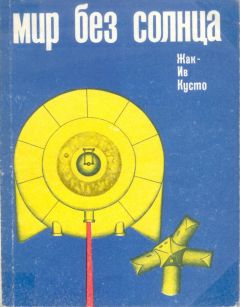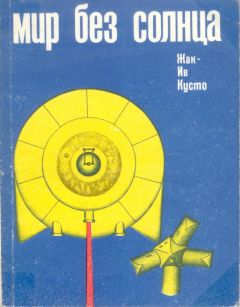— Очень прошу, Платоша, зайди.
Минуты через две Самсонов без стука вошел в номер; просторная полосатая пижама топырилась на полнеющем животе, босые ноги в домашних шлепанцах, лицо помятое, на щеке красная полоса от подушки — все говорило о том, что он не мучился бессонницей, спал крепко в своем номере и, разбуженный, был раздосадован и удивлен неурочным звонком.
Самсонов грузным телом упал в кресло, хмыкнул, навел близорукие моргающие глаза на Никитина, спросил:
— Да ты знаешь, сколько времени-то? Третий час ночи. Бессонница? Димедрол есть? А ну-ка попробуй.
Он извлек из кармана пижамы пакетик димедрола, вытряхнул на ладонь таблетку, налил в стакан минеральной воды.
— Прими. Даю гарантию. Проверено.
— Не то, не то, Платоша, совсем не то, — сказал Никитин и, потушив сигарету в пепельнице, зашагал к ванной, принес оттуда два пластмассовых стаканчика, подхватил с письменного стола бутылку коньяку, начатую в день приезда, плеснул в стаканчики, излишне весело предложил: — Давай лучше армянского. Вроде так повнушительнее. И лечебное.
— Это как понимать — посередь ночи? С какой стати разгулялся? За этим ты меня и разбудил? Эдак мы сопьемся с тобой за границей, дорогой друг и учитель! Не пошел ли ты в разгул на загадочных радостях?
— А, будь здоров, поехали, Платоша!
Никитин выпил, зажевал осколочком печенья, вытянутым из разорванной пачки, походил из угла в угол по номеру, постоял у окна. В колени дышало сухим теплом, пощелкивало электрическое отопление, осенняя ночь липла к стеклам сырой теменью, стучали набегом редкие капли, малиновый отблеск рекламы туманно разбрызгивался по мокрому тротуару на углу каменной улицы. Была глухая пора дождливой ноябрьской ночи в этом неприютном и огромном Гамбурге с неизвестной жизнью, точно опущенной сейчас в ненастную, просырелую мглу, — и то, что десять минут назад, бродя меж закрытых дверей длинного, серого, тусклого коридора, он ощутил себя одинокой песчинкой в вымершей навсегда пустыне, и то, что никак не исчезало ошеломляющее чувство узнавания, вины, неудовлетворения, необъяснимого стыда после разговора у госпожи Герберт, вызывало насильное желание оборвать, забыть, прекратить все — и вернуть прежнее заграничное состояние необремененного привычными обязанностями человека.
Но этот настрой не возникал, и глоток ожигающего коньяка, и приход Самсонова не помогли ему, хотя чем-то домашним, обволакивающим повеяло от его неуклюжей фигуры, заспанного лица, от его комнатных шлепанцев на босу ногу.
«Как же сказать, что у меня началось? — подумал Никитин, нахмуриваясь, и сел в кресло напротив Самсонова. — Как ему сказать?»
— С твоей бессонницей в алкаша превратишься, — проворчал Самсонов, нехотя пригубил пластмассовый стаканчик, смочил губы и крякнул. — Ну что? Что загрустил, Вадик? — спросил он ворчливо и пошаркал шлепанцами, расставил толстые, обтянутые пижамой колени. — Об чем задумался? Об чем мысли? Ничего не стряслось? По какой причине тебя задержала у себя эта богатая госпожа? Если, конечно, не секрет. Делал автографы, или вели вумные беседы об искусстве? А ты знаешь, она еще, так сказать, ничего…
— Что «ничего»? — Никитин хрустнул пальцами, глядя в потолок.
— Ну, фигурка, глаза, седые волосы или покрашенные, бог его знает, сейчас это модно, — в общем, что-то есть… Довольно-таки привлекательная еще немочка, хоть и не первой юности.
Самсонов снова смочил коньяком губы, наморщил брови, потянулся к разорванной пачке печенья на тумбочке и договорил не без иронии:
— Смотри, Вадимушка, держи ухи востро — околдует, очарует русскую знаменитость, и — опять же что? — пострадает отечественная словесность. Изнасилует, согласно западной сексуальной революции. Не опасаешься?
Никитин помолчал, медлительно разминая сигарету, и вдруг с какой-то подмывающей сердитой искренностью спросил:
— Ты знаешь, кто она?
— То есть как кто? В каком смысле? Женщина, имеющая частную собственность. Довольно-таки богатая тетя из Гамбурга, видимо, меценатка, окруженная людьми, так сказать, искусства. С демократическим уклоном. Вот и весь пасьянс. За исключением того, чего мы не знаем.
«Стоит ли сейчас говорить все? Он может понять не так, как надо, — подумал Никитин, как бы сразу останавливая себя перед препятствием, за которым было скрыто его личное, давнее, очень молодое, и почти от этого полуявное, словно ускользающий в полудреме теплый солнечный свет на обоях милой далекой комнаты. Но ощущение давнего, юного, такого нереального, что, мнилось, проступило оно сквозь туманные пласты целой прожитой жизни, не его, Никитина, а совсем другого человека, приблизилось к нему сегодня из бывшего когда-то синевато-ясного майского утра, утратив грубую тяжесть прошлых оттенков, едва не затемнивших в конце войны его судьбу, наивного в своей мальчишеской чистоте лейтенанта, командира взвода, — нет, позднее той раскрытой чистоты, той неосторожной решительности он уже не испытывал с безоглядной полнотой юности никогда.
— И все-таки, ты знаешь, кто такая госпожа Герберт? — переспросил Никитин, ловя взглядом на полном лице Самсонова удивление. — Да, милый Платоша, такое бывает раз в жизни, вернее, не в жизни, а в забытых снах человечества. — Он опять похрустел пальцами, затем, с усмешкой разглядывая темную жидкость, поднял стаканчик, задумчиво договорил: — Давай за золотые сны юности. Мне что-то грустно сегодня, Платоша. Ужасно грустно. Даже тоска какая-то.
— Много пьешь, — заметил Самсонов и, насупленный, прикоснулся краем стаканчика к стаканчику Никитина. — Хоть, знаешь ли, и за сны юности… или там человечества. Но что с тобой, Вадик? Можно сказать, поднял с постели без порток средь ночи, хлещешь коньяк, как на свадьбе, бормочешь невнятный бред. А я — слушай и умней?
— Сон и бред. Именно сон и бред, — ответил Никитин и жадно выпил коньяк. — А скажу я тебе, Платоша, вот что. Не удивляйся, ибо сам не до конца верю, хотя это так. Госпожа Герберт — это некая Эмма, когда-то восемнадцатилетняя синеглазая немочка, с которой я совершенно случайно встретился в конце войны в Кёнигсдорфе. Батарея размещалась в ее доме. А Кёнигсдорф — это дачный, тихонький городок, куда нашу потрепанную дивизию отвели на отдых из Берлина. И перед Прагой. Вот кто такая госпожа Герберт… Не удивлен, Платоша?
Никитин выговорил это с размеренным, нарочитым спокойствием, но кустистые брови Самсонова недоверчиво поползли на лоб, он поставил стаканчик на тумбочку, после чего звучно фыркнул губами и носом:
— Ересь научно-фантастическая? Действительно! Ну и что? То есть — какая девочка? Какая Эмма? Нич-чего не понимаю! У тебя что — какие-то общения с ней были? Или что?
— Видимо, — сказал Никитин. — Мне было тогда… почти двадцать один. Двадцать шесть лет назад. Это было в мае сорок пятого года.
— Ой ли! Военный фольклор! — вскрикнул Самсонов, взметнув в воздух обе руки и опуская их на колени. — Ты бредишь наяву, Вадимушка, сочиняешь, выдумываешь несусветное! Как можно помнить какую-то девочку, хоть и синеглазую, двадцатишестилетней давности? И что уж такое у тебя было? Да и что могло быть, когда к немцам отношение было ясное!
— Было то, что могло быть, Платоша, — ответил Никитин. — Мы стояли в Кёнигсдорфе дней пять. Второго мая нас вывели из Берлина.
— И та девочка — госпожа Герберт? Господь-бог! Ай, Вадимушка, Вадимушка, сейчас ты примешь димедрольчик, запьешь минералкой, укроешься потеплее одеялом, завтра проснешься со свежей головкой, готовый для дальнейших дискуссий. — Самсонов, широко раскрывая рот, завывающе зевнул: — Ава-ва-а… Не отдаешь себе отчет, как все гениально? Прошло четверть века, но ты вспомнил ее лучезарное, прелестное, невинное личико… и впал в меланхолию. Сюжетик восемнадцатого века, Вадим. А я ведь реалист как-никак.
Самсонов закончил зевоту сипловатым смешком, руки его соединились на животе, большие пальцы стали рассеянно постукивать, отталкиваться друг от друга, и нечто снисходительно-сонное появилось на его круглом, аляповатом без очков лице, в подслеповатом прищуре повлажневших от сладкого зевания глаз.
— Перестань, Платон, разыгрывать и валять дурачка. Я говорю совершенно серьезно. Ты способен воспринимать что-нибудь или мне замолчать?
— Мои уши на гвозде внимания, Вадимушка! Только отдохнуть бы тебе…
Никитин курил, смотрел на непроспанного Самсонова, взявшего легковесно-недоверчивый тон, видимо показывая этим насмешливую досаду к бесполезному разговору среди ночи, после телефонного звонка, прервавшего сон по причине чужой бессонницы, — и смешок, и зевание его, и ироническая непробиваемость начинали тоскливо раздражать Никитина, как и то нелепое бессилие в омертвело пустынном коридоре отеля с темной вереницей ботинок у дверей.