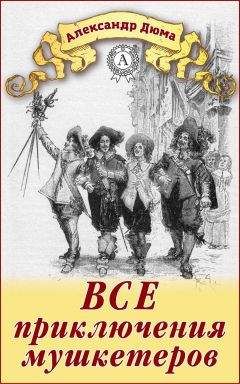А затем я с захватывающим чувством счастья вспоминал, как вел радиопередачи из обитого жестью «ЗИС-101», когда его железная шкура гудела под градом осколков немецких мин и снарядов; как летал на ночные бомбежки, чтобы скинуть немцам газеты; как выкликал из ничейной земли через рупор лозунги и всякие обидные для Гитлера слова; как просиживал ночами над листовками или газетными статьями, а под утро мчался на разболтанной полуторке сквозь узкую, простреливаемую горловину в расположение нашей армии, глубоко вклинившейся в оборону противника…
Случись со мной то, что случилось, хоть несколько позже, я, быть может, не стал бы роптать. Но ведь я даже не видел результатов своей работы. За те девять месяцев, что я пробыл на Волховском фронте, немцы стояли прочно, наши попытки прорваться на Любань — Чудово успеха не имели, и мне не довелось увидеть ни одного немца, добровольно перешедшего на нашу сторону. Правда, у многих пленных, взятых в районе Киришей, оказались наши листовки, припрятанные в бумажник про черный день. Это кое-что значило, и можно было поверить начальнику отдела, который говорил, что вся наша письменность сработает враз, при первом же успешном наступлении. Но этого наступления я не дождался.
…И вот теперь, отстав от товарищей по курсу, я должен вернуться в институт. Чего я добился? У меня нет на счету ни убитого, ни сагитированного немца, я не испытал счастья победы…
Удар станционного колокола вывел меня из забытья. Я вздрогнул и открыл глаза. Был уже поздний вечер, день давно миновал. Все высыпали на перрон: прибыл поезд на Анну. Я с трудом поднялся с холодного пола и пошел к голове сборного поезда мимо спальных вагонов прямого сообщения, теплушек, дачных вагончиков прошлого века с избяными окошками.
— Товарищ лейтенант! — окликнула меня проводница. — Заходите, тут вагон для командиров.
Но я казался себе сейчас самозванцем на войне, и у меня не хватило духу войти в вагон дли настоящих командиров. Я сел в другой вагон, у которого на крыше торчала труба, схожая с самоварной. Из трубы летели красные искры. Это был обычный дачный вагон, только посредине были сняты скамейки и стояла железная печурка. Вокруг нее на дровах сидели бойцы; на их темных, покрытых зимним загаром лицах играл отсвет огня. Березовые мерзлые дрова оттаивали и приятно попахивали ранним весенним лесом. От дыма печки и самокруток, отблесков пламени воздух был багряно-сумрачным и чуть дрожал; все в вагоне как-то мягко и зыбко струилось: фигуры людей, вещи, скамейки.
Бойцы негромко беседовали, щедро дымя едким, крепким самосадом. Мне тоже захотелось курить. Я вытащил пачку «Кафли», неловко скрутил папиросу и закурил. В багряно-сумрачном, призрачном освещении вагона, в укромности сухого тепла меня оставили все мысли о прошлом и будущем, сейчас я жил короткими желаниями минуты. Докурив папиросу, я ощутил жажду, но не хватало духу выйти в ветреную черноту ночи. Я стал думать сперва о бачке в душном и грязном зале ожидания, потом о станционной колонке, обвитой бугристыми зелеными обледенелостями, похожими на замерзшие водоросли, затем о черной, пахнущей жестью и гарью воде из паровоза. Эти мысли, напряженные и бессильные, были прерваны звонким женским голосом:
— Ох, все ж ки успела!..
Голос был удивительный — необычайной прозрачности, свежести, и молодости, хоть угадывалось, что принадлежит он не девушке. Налитость, установленность, ширь и полнота звука обнаруживали его зрелость.
— Успеешь, коль поможем!.. — обрадованно прыснул один из бойцов.
Тон был дан. Посыпались соленые шуточки. Обладательница красивого голоса неплохо защищалась. Она делала вид, что принимает двусмысленности буквально, и шутки бойцов оглуплялись. Затем, желая положить конец этому поединку, она сказала:
— Ну, ребятки, у кого хлебушек есть? У меня молоко.
— Дойная! — взвизгнул один из бойцов.
Я подумал, что следует вмешаться, как-никак я был командиром и мог призвать бойцов к порядку, но то же чувство, что помешало мне сесть в офицерский вагон, заставило меня промолчать.
Женщина и не нуждалась в защите. Переждав, когда иссякнет поток солдатского остроумия, она сказала тепло и соболезнующе:
— Как же вы соскучились, ребятки! Пади и мой где-то душенькой мается! Бедные вы мои, бедные!..
Стало тихо в вагоне. Молоденький боец, долго и тоненько заливавшийся при каждой выходке товарищей, смял смешок кашлем и тоже затих. Затем усатый сержант проговорил хрипловато:
— Нет у нас хлеба, сестренка, прохарчевались…
Я обернулся к женщине.
— У меня есть сухари. Правда, жесткие.
— Давайте их сюда, товарищ командир, — сказала женщина.
Прихватив вещевой мешок, я пересел к ней. От этой женщины веяло теплом и силой, а я так нуждался и в том и в другом.
В зыбком, сумрачном освещении, какое бывает на пожаре, я не мог разглядеть ее черт, не знал, красива она или некрасива, юна или не первой молодости. Она достала из корзинки бутылку с молоком, взболтала его.
— Стаканчик у вас найдется, товарищ командир?
— Нет.
— Будем из горлышка пить. Не побрезгуете? — спросила она без тени игривости, серьезно и озабоченно.
Она протянула мне бутылку, я отдал ей сухари. Молоко было приятно холодным! Основательно приложившись, я вернул ей бутылку. Она старательно грызла сухари и запивала маленькими глотками. Так, чередуясь, выпили мы все молоко, а пустую бутылку она спрятала в корзинку.
— Вы в Анну едете? — спросила она.
— Да.
— Значит, попутчики.
— А вы там живете, в Анне?
— Да, на Большой Африканской, может слышали?
Нет, я знал только Первомайскую, где находилось политуправление фронта.
— Странное название, — сказал я. Воронежский райцентр — и вдруг Африка…
Женщина засмеялась.
— Верно! А мне что-то никогда в голову не приходило. Зато упомнить легко, такое не спутаешь! Чудные бывают названия. Вот Графская — почему советский поселок Графской прозывается?
— Наверное, от старины осталось.
— Пожалуй, только название и останется, если он так бомбить будет, — заметила женщина и зябко поежилась.
— Прошлую ночь дорогу бомбили…
— Да знаю я! — засмеялась женщина. — Останется у меня в косточках эта Графская. Мы там на расчистке путей работали.
Я вспомнил женщин в ватниках, их медленные движения и заплетаемые ветром вокруг ног подолы. Как по-разному воспринимаются вещи в отдалении и вблизи! Тогда я подумал лишь, что женщинам, верно, холодно, ветрено, тяжело, а сейчас всей шкурой почувствовал, как солоно им пришлось…
— Вас что, посылали туда? — спросил я.
— Ну, как посылали? Просто наша комсомольская организация решила помочь…
— Вы комсомолка? — спросил я удивленно. Мне казалось, что моя спутница давно вышла из комсомольского возраста.
— А что же тут такого? — произнесла она немного обиженно. — Мне и двадцати пяти нет. Это я выгляжу так… Устала, да и не одета. А еще недавно меня батька царицей Тамарой звал. — И невольным, безотчетным движением она сдвинула платок с густых темных волос.
Я попытался разглядеть ее в темноте. Крупные искры, время от времени снопом вылетавшие из трещины в трубе, выхватывали то прядку волос, то примятый в переносье нос, то изгиб бледной щеки, то ухо с оттянутой серьгой мочкой и крупной дыркой прокола. Порой я мог охватить и ее фигуру, длинное, как у молодой лисицы, тело, худые длинные ноги в подвернутых ниже колен резиновых сапогах. Но облик ее не складывался, как ни напрягал я воображение. Потом мне стало понятно почему. Я искал какой-то характерности в ее лице, резкой индивидуальности черт, того своеобразия, какое было в ее грудном, звонком и полном голосе. А этого не было. Возможно, что улыбка, яркость и быстрота взгляда, те неуловимые тени, что пробегают по лицам живых, свежих и впечатлительных натур, четкая сила движений придавали прелесть будничной и заурядной наружности моей спутницы. Наверное, так, но темнота скрывала от меня ее подлинный облик.
— Правда, батьке особо верить нельзя, — продолжала женщина. — Ему все нравились. Очень падкий на женщин был…
— Что за батька? — удивился я.
— Да общий же. Командир отряда.
— Вы что, партизанили?
— Недолго. С ребенком на руках партизанить трудно. Наши и вывели меня через линию фронта.
— Вы местная?
— Нет, с Орловщины. Здесь у меня тетка живет. Кланька моя с ней оставалась, пока мы в Графской вкалывали. Поди соскучилась. Знаете, товарищ командир, родилась она уже без отца, а вся в него. Прямо странно. Ни одной черточки моей, все его: глаза, волосы, нос, даже смеется, как отец, будто выталкивает.
— А муж где воюет?
— Был под Москвой. Последнее письмо из-под Сухиничей пришло.
Я посмотрел на женщину и ничего не сказал: бои в районе Сухиничей шли осенью прошлого года.