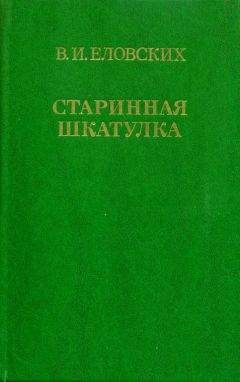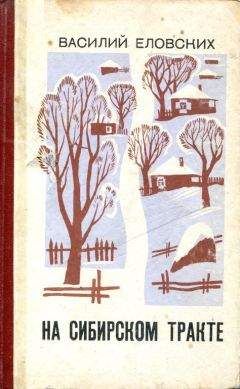— Ну, гадство! А чего служил у них?
— Что значит служил? Я — художник. Ну и с лекциями выступал. По искусству. Вот и все! Я никого не убивал. Я даже не стрелял. Что ж ты от меня хочешь?
— Ну, елки-палки! Стрелял не стрелял, а все ж таки служил. Ну, говори, служил или не служил?
— Повторяю: я — художник. Это ты вот — другое дело. А я — художник. И они меня зас-та-ви-ли! Я недолго там… так… — вполголоса и торопливо говорил Васильев, радостно думая: «Он мало чего знает. Мало! Мало! Слава богу!» — И сейчас я живу честно. Я хорошо работаю. И я ценю советскую власть. — Последние слова он произнес намеренно твердо. — Я тебя выдавать не буду. Не бойся. Подожди, послушай. Ну, послушай, говорю! Уходи отсюда. Уходи немедленно. И займись честным трудом. Устройся в колхозе или леспромхозе, там меньше проверяют. «Все равно выдаст при случае, мерзавец. Выдаст!..» — Рука, державшая папиросу, слегка дрожала. — Жене ничего не говори. Слышишь? Зови меня Иваном Михайловичем. Можешь и просто Иваном. Ты мой фронтовой товарищ. Болел и сейчас поправляешься. Понял?
— Могила!
— А завтра поговорим обо всем.
За ужином Васильев пытался шутить, но не получалось. Надя с недоумением поглядывала на мужа. Денисов ел за двоих. Залпом выпив стакан водки, попросил:
— Дай еще.
— Нету больше, — грубо отрезал Васильев.
Захмелев, Денисов откинулся на спинку стула, оттопырил нижнюю губу, его толстый нос запотел. И какой наглый и вместе с тем тупой взгляд. Этот взгляд пугал Васильева.
— А тещи у тебя нету? — спросил Денисов. — Это хорошо.
— Что же тут хорошего? — обиженно проговорила Надя.
— А счас скажу. Был у меня тут знакомый плотник. И вот как-то пришел он к тещеньке своей. Задрал, значит, рубаху и просит: «Плюнь-ка мне на спину». — «А зачем это тебе?» — «Плюнь, плюнь». Плюнула. «Разотри». Растерла. И опять спрашивает: «Зачем это тебе?» — «Доктор велел мне лечиться змеиным ядом». Ха-ха!
Васильев скривился от этого старого пошлого анекдота. Он не знал, о чем говорить с Денисовым при жене. Спросил:
— Жарко, наверное, в шапке-то?
— Моя сердобольная мамаша когда-то меня в снег положила. А взять забыла. И с той поры я не могу отогреться.
— Какие все же есть жестокие матери, — сказала Надя.
Денисов и жена быстро заснули и храпели в разных комнатах одинаково басовито, с присвистом. И эта одинаковость казалась Васильеву смешной, нелепой. И было обидно за жену. Он подошел к окну. Тьма. Только далеко справа светилось окно райкома партии. Он не мог уснуть до утра, переваливался с боку на бок, стараясь не разбудить жену. Сперва лежал, потом ходил по избе. И все думал, думал… Навязчивые, пугающие мысли лезли в голову, буравили мозг: «Все погибло! Он негодяй и дурак. Второе для меня страшнее первого. Все!.. Что делать?..» Гнетущее чувство безысходности стало покидать его только под утро, сменяясь тупым, бездумным равнодушием, таким, что, кажется, наставь на него пистолет, не вздрогнет, не крикнет; видимо, наступающее утро само по себе несло некоторое облегчение. И он на какое-то время заснул тяжким, мертвым сном.
2
В тридцатых годах среди художников Ленинграда не последнее место занимал Евгений Максимович Лебедев; он был графиком, но писал и маслом. Многие критики считали его художником-формалистом, а он был просто-напросто мало одаренным человеком, отличавшимся работоспособностью, большой претенциозностью и напористостью. Заказов на графические работы получал мало, его пейзажи не покупали. Но, глядя на него, никто бы этого не сказал: орлиный взгляд, томное, чуть покровительственное выражение лица, длинные до плеч волосы. Острый на язык, так и сыпал шуточками и анекдотами. Всегда чисто побрит, модно одет и надушен. Он был, что называется, душой общества, и людям казалось, Лебедев весь на виду. И никто не знал, что, бывая в Москве, он всякий раз подолгу стоял возле старинного, вроде бы ничем не примечательного двухэтажного дома, расположенного в одном из тихих арбатских переулков, смотрел на него и не мог насмотреться. Иногда заходил в этот дом, где размещалась контора, неторопливо шагал по узким коридорам, и лицо его было грустным, а взгляд непривычно затаенным. Этот особняк принадлежал когда-то отцу Лебедева, купцу второй гильдии, умершему от разрыва сердца в смутную революционную годину. Был у отца еще один дом, но его снесли и построили школу.
Матушка после смерти отца прожила еще лет двадцать, работая каким-то мелким канцеляристом, и, судя по всему, была хорошо обеспечена, даже помогала сыну, видать, в свое время сумела все же кое-что припрятать. Она любила Россию (не советскую, а вообще Россию), была набожной, заявляя всем, что «всякая власть от бога», дорого и красиво одевалась, намекая кое-кому при случае о своем «необычном происхождении»; в общем, будучи простой купчихой, корчила из себя аристократку. Хрипловатый, тяжелый голос сына, его грубоватые, плебейские манеры пугали ее, и она таращила глаза: «Как можно, Евгений? Будто пьяный извозчик… Будь культурнее». И он старался… Говорила сыну: «Советская власть — дело не прочное. Искусственное. Ведь чувство собственника у всех в крови и заглушить его невозможно. Каждому по потребностям… Господи, да как это?.. Тогда все захотят только потреблять. И никто не будет работать. Вот начнется война, и эта власть рухнет».
В дни его раннего детства у них полно было богатых родичей и знакомых, но все они подевались куда-то.
Лебедев постепенно смирился с новыми порядками, как с чем-то неизбежным, но чувство какой-то затаенной горечи все же сохранялось в нем: ведь если бы не революция, он был бы богат и не считал копейки. Впрочем, он едва ли бы занялся торговлей: лавки, зазывалы, поклоны перед богатыми покупателями — все это не по нему, но деньги — сила, а они были бы у него. Новые годы, надо полагать, внесли бы в его душу полное смирение, но вот началась война… Она застала Евгения Максимовича в Вильнюсе, куда он поехал в творческую командировку.
Он был уверен, что немецкая армия в два счета разделается с коммунистами, и, значит, опять будут старые порядки. Ну, что ж, старые, так старые. Теперь его больше всего беспокоило, как бы не разрушили отцовский особняк. Лебедев представился больным и несколько дней пролежал в квартире старухи-польки; раз по пять в день проходил в уборную, совал в рот пальцы, вызывая рвоту. Прислушиваясь к его стонам, старуха шептала: «Матка боска, матка боска!»
Он не думал служить у немцев, все получилось как-то случайно, само собой: немцы попросили его написать несколько вывесок, потом велели (уже велели!) подготовить сколько-то рисунков для газет, издававшихся оккупантами на русском языке. А дальше… дальше были команды: пойди туда, сделай то-то… Писал статьи для газеты, выступал по радио и даже с лекциями (его представляли: «Известный русский художник»), везде призывая «бороться за освобождение матушки-России от большевиков». И всякий раз страшно волновался, даже колени дрожали, голос казался чужим, и, стараясь справиться с нервным возбуждением, он говорил без надобности громко, выкрикивая отдельные слова. Друзья-немцы подарили ему новую, изготовленную в Германии, трость с набалдашником в виде головы Мефистофеля.
Вспоминая о войне, Лебедев приходит к заключению: всему причиной — его малодушие, его трусость, которыми он отличался с самого детства и которых стыдился. В войну боялся гитлеровцев (казалось, они убьют его или упрячут в тюрьму, если он начнет перечить им), а после войны боялся, что его разоблачат; снежный ком, несущийся с горы, нарастал, и в душу прочно вселялись беспокойство, тревога, недовольство собой.
Помнится, в начале войны он ощущал необычный прилив сил, жизнерадостность, но вскоре пришло разочарование, оно началось с того дня, когда он прочитал брошюру, подготовленную пропагандистским центром Германии: написанная на русском языке и предназначенная для русских, она каждой строкой дышала ненавистью к русским. Там была таблица, где перечислялись все нации земли «соответственно их интеллектуальному развитию и месту в истории человечества»; в самом верху значились немцы, а где-то в конце таблицы — русские. Только круглые дураки могли подготовить такую брошюру. Чем-то тягостным-тягостным, неприятным повеяло тогда на Лебедева. Нет, он бы вел пропаганду более умно и тонко.
С Денисовым познакомился в Киеве, тот был полицаем; вечно пьяный, наглый, с противными ужимками и садистской улыбкой, он и тогда вызывал в Лебедеве чувство брезгливости. Евгений Максимович снова сказался тяжело больным, теперь для этого уже были некоторые основания — сердце стало работать с перебоями, и последние полтора года войны ничего не делал для немцев. После капитуляции Германии вместе с сыном колчаковского офицера Тороповым (тот с тридцать седьмого года сидел в тюрьме за политику, немцы выпустили его и устроили у себя на службу) поехал в глубь России, прихватив документы убитого немцами русского солдата Васильева Ивана Михайловича, и старался не думать о том, что был когда-то Лебедевым. Осел в Западной Сибири. Торопов поехал дальше. Видимо, его вскоре схватили…