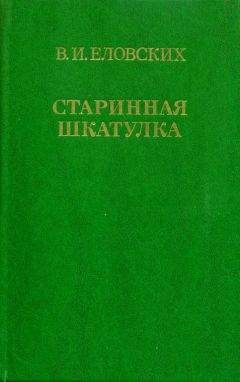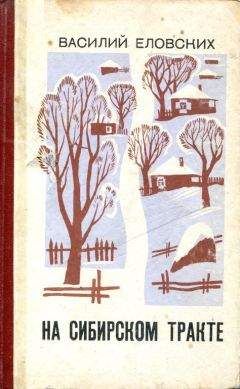Почему не объявился, не сказал, кто он? Ну, тут опять от малодушия, от трусости: боялся, начнется следствие, допросы, тюрьмы, и он со своей стенокардией и диабетом не выдержит этого. Правда, Васильев-Лебедев не чувствовал, как многие другие, животного страха перед смертью, но всегда остро чувствовал физическую боль и тяжело переносил ее; ведь они не поверят, что он не бил и не убивал и ни с кем сейчас не связан. Возможно, будут пытать его. «Пытают там или не пытают?» Наверное, пытают. Этот вопрос был страшнее вопроса: убьют или не убьют? Тем более, что он знал: не убьют. И он другой теперь, в своих делах и мыслях; кому будет легче от его полного откровения… Он снова и снова ругал себя: кой черт толкнул его к немцам? Когда-то гордился своей, как ему казалось, «романтичностью», даже «исключительностью». Чего стоит вся его «красивая» молодость после кошмарных дней войны, какая уж тут исключительность, какая уж тут, к лешему, романтичность! Ничего этого не было, были глупое позерство, самолюбование и стремление полегче, получше пожить.
В районе он работал, не жалея себя; сперва хотел упрочиться в жизни (это двигало его), а потом, видя как трудно и голодно живут в деревнях и чувствуя вину перед людьми, мучаясь поздними раскаяниями, он хотел помочь тем, среди которых жил, хотел, чтобы видели его доброту и старательность. «Последнее не от эгоизма ли? Не от стремления ли на всякий случай перестраховаться, — разоблачат, то спросят: а как вел себя, как работал?..» И еще Васильев боялся безделия, которое пробуждало в нем тягостные воспоминания о прошлом, самоанализ и навязчивые мысли; ведь можно так погрязнуть во всем этом, что не увидишь и жизни. Сперва он был завмагом, потом председателем сельпо, а летом этого года стал председателем райпотребсоюза. Постоянное напряжение, ничем внешне вроде бы не проявляющееся, опасность разоблачения и игра, которую ему приходилось вести, необычайно обостряли его ум, усиливали восприятие, и он иногда не без иронии думал, что изменение психики и развитие умственных способностей при подобных обстоятельствах могли бы служить темой для серьезного научного исследования. Конечно, лучше бы не продвигаться по службе, оставаться в тени, продавец или завмаг и — хватит, да еще глупым представиться (к глупым больше доверия), а то начнут проверять твое прошлое (у начальства проверяют), появятся завистники, а иметь завистников — самое поганое дело. Но… выдвинули, можно сказать, силой втолкнули на эту должность: мы на тебя надеемся, ты подаешь большие надежды… И, слушая его возражения, недоумевали, хмурили брови. Больше всех старался Рокотов — у него особый нюх на способных людей.
Раньше Васильев думал, что в селах и деревнях таежных жизнь тихая, первозданная, дремотная. Как это далеко от правды. Может, и была когда-то дремотной. Ему кажется, что живет он в Карашином уже давным-давно, знает почти всех жителей села, может сказать, в каких дворах наиболее горластые петухи и где самые злые собаки.
Иван Михайлович стал подмечать за собой странную и неприятную особенность: ему хотелось нравиться людям, хотелось казаться благожелательным и добрым, он чувствовал, что на лице его часто появляется заискивающая улыбка. На собраниях он никого не критиковал или критиковал мягче, чем хотел бы, старался говорить безобиднее, чуть-чуть оправдать тех, кого слегка критикует. Порою чувствовал странное нервное напряжение, будто видел пред собой смертельную опасность. Изменилось и его отношение к вещам — столу, стулу, часам, графину, лампе: если они ломались или портились, он чувствовал жалость к ним, как к живым, что дивило его и пугало.
Прошлое невидимыми нитями тянуло его за собой: в отпуск он ездил на родину Васильева, того самого, чьим именем прикрывался. Он не мог понять, почему его так неудержимо влекло в далекий Минск. Нашел улицу, где жил Васильев. Но там были одни развалины и пустыри. Лежала куча новых кирпичей. Что-то строить собираются. Подслеповатая сгорбленная старуха сказала ему:
— Весь город разрушили. Мало ли тут Васильевых жило.
Это его успокоило.
Он дал себе слово никогда не рисовать. Но однажды забылся. Рокотов рассказывал что-то веселое, и Иван Михайлович, смеясь, подтянул к себе лист бумаги и в шутку принялся набрасывать портрет секретаря райкома.
— Да ты художник! — воскликнул Рокотов. — Смотри, какой шикарный рисунок. И похоже.
Он не ходил в баню, мылся дома. На его груди была татуировка — большая свастика, которую сделал ему немецкий офицер летом сорок первого года. Они оба были тогда мертвецки пьяны, и Лебедев хотел чем-нибудь да доказать свою преданность третьему рейху.
Последнее время он стал разговаривать во сне. Как-то жена сказала ему:
— Что тебе снилось? Кричишь: «Я не убивал, я не убивал!»
Бывая в командировках, он ночевал в сельсоветах или в конторах правлений колхозов.
Когда в газете впервые появилась его фамилия, он даже испугался, но тут же успокоился: Васильевых на белом свете множество. Вот если бы написали: Евгений Максимович Лебедев… Хорошо, когда у человека простая фамилия — Васильев, Иванов, Петров, Федоров.
Внешность его сильно изменилась: появились лысина, мешки под глазами, лицо огрубело, походка стала по-мужицки тяжеловесной, и он сам себе уже казался старым-престарым. Говорил всем, что он сын рабочего и сам — бывший вальцовщик, избитый жизнью простой мужичок, плебей из плебеев. В мужской компании любил матюка пустить и подмечал с приятным удивлением, что даже думать начинает иногда местными, диалектными словами. Наплывала откуда-то холодная мысль: «Я вырождаюсь. Вырождение, наверное, зависит больше от окружения, чем от наследственности», и он пугался этой мысли.
Женился он на местной вдовушке, полуграмотной, простенькой телом, хотя и с миловидным личиком, простенькой мыслями; она работала когда-то продавщицей, а выйдя замуж, уволилась и занялась хозяйством. Люди говорили, что Васильевы похожи друг на друга, и Иван Михайлович дивился этому. Видимо, она в чем-то подражала ему, что-то перенимала у него, хотя бы во внешних формах поведения, и, возможно, он у нее. Иван Михайлович всю жизнь обогревал себя надеждами, а теперь вот их почти не было, и это уже само по себе угнетало его. Надежды связаны с будущим, и, утратив их, Васильев должен был бы потерять интерес к будущему, а получилось наоборот — он ждал будущего еще сильнее, чем раньше, был болезненно нетерпелив в этом ожидании, — хотел отдалить себя от войны, от всего того, что было с ним когда-то.
Дома он все больше молчал, а на людях, нервничая и напрягаясь, становился многословным, даже болтливым, дивясь тому, что разные, казалось бы, вещи — нервность и болтливость могут быть так тесно переплетены.
Судьба стала вроде бы милостивой к нему, Васильев несколько успокоился, и вот явился этот тип и будто камнем придавило душу. Иван Михайлович не находил себе места ни на службе, ни дома.
В обед Надя сказала:
— У тебя, я вижу, совсем аппетит пропал. Смотри, как твой дружок наворачивает. Аж треск идет. И где ты только его подобрал?
— А что?
— Выходит сегодня на кухню и говорит: «Ну, здравствуй, дорогуша!» И, знаешь… давай лапать меня.
— Как лапать?
— Ну, хотел обнять. Шутя вроде бы, но… оттолкнула, конечно.
— Скотина!
— Подозрительный он какой-то, слушай.
«Вот тебе и женушка!»
— Он, по-моему, немножко того… свихнулся. Фронт есть фронт.
— Своди его в поликлинику.
— Ладно, свожу.
— Ложусь вечером спать и молюсь: господи, избавь нас от этого мужика, — добавила она шепотом. И невесело улыбнулась.
Надя верила в бога, хотя и скрывала это от всех, кроме мужа, и Иван Михайлович, будучи атеистом, одобрительно относился к ее набожности, даже старался укрепить в ней веру во всевышнего, полагая, что боязнь греха сделает жену еще более покорной и покладистой.
— Ну, что ж… молись, — сказал он тоже вполголоса. А подумав о чем-то, добавил уже сердито: — Хотя никакого проку от молитв твоих, конечно же, не будет. Не беспокойся, я вытурю его.
Он тихо поцеловал ее в щеку и подумал, как много в ней детского: детская припухлость губ, мягкая бархатистость щек и по-детски застенчивая улыбка, только вот руки тяжелые, морщинистые, уже не молодые руки. Не умел он ухаживать за женой, объятия и поцелуи получались какие-то неловкие, вымученные, как бы по необходимости. А он по-своему любил жену, и та это знала, всем была довольна, печалила ее только холодность мужа.
Денисов был во дворе. Зашел в дом и начал грызть ногти.
— Не стой у окошка. Заметят.
— А тут милиционеры замухрышки. Отобьюсь.
— Только о себе думаешь. Отойди, говорю! И знаешь что?.. Тебе пора уходить.
Васильев хотел весело, по-дружески улыбнуться, но улыбка получилась деланной, затаенной, и Денисов насторожился: