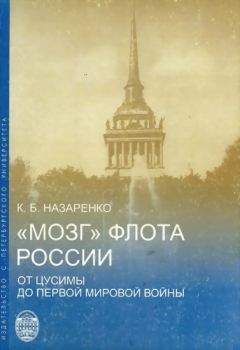— В ресторане надо пить водку, — сказал Маня. — А у меня, по правде говоря, соглашение с экипажем. Мы все решили откликнуться на призыв и ничего никогда не пить спиртного на берегу. Весь личный состав держится стойко. Они, конечно, не узнают, если я сейчас выпью рюмку, но мне не хочется их обманывать…
Рассказывая о Маньке, майор хохотал так громко и неудержимо, что на них стали оборачиваться люди.
— Ты не слышал, может, он влюблен? — спросил Шаталов.
— Чего не знаю, того не знаю. Он мне не докладывал.
— А волосы у него как: растрепанные и висят на глаза или прилизаны?
— Кажется, тогда они висели.
— Значит, не влюблен, — сказал Шаталов. — Когда он влюблен, то прилизывается каждый день… И, говоришь, грустный?
— Да, — сказал майор и опять расхохотался. — Станешь грустным, если решил до самой смерти в рот капли не брать!
— Ну, ладно. Кончай трепаться, — сказал Шаталов. Ему было не до смеха.
В Н. он прилетел вечером, а последние сто километров до Курамоя добирался на попутной машине.
Сопки горбатились по бокам дороги. Шофер молчал и гнал машину. Шаталов обещал ему по два рубля за километр. Ветер свистал за стеклом окна. Кабина качалась. В сиденье ныли пружины. Изуродованные ветром сосны то подскакивали к самой дороге, то галопом поднимались на сопки. Шаталов курил папиросу за папиросой. Нетерпение переполняло его. В нетерпении и скорости пропало все — мысли, воспоминания, тревога за свое будущее.
Глухой ночью он вылез из машины на развилке дорог. Вокруг было пустынно и темно. Где-то, невидимое за сопками, шумело море.
— Иди на прибой, а потом огни увидишь, — сказал шофер и уехал.
Эхо долго бродило над дорогой, провожая машину.
Шаталов сунул кулаки в карманы и пошел, пережевывая мундштук погасшей папиросы. Он измотался и устал за поездку. От сырой шинели пахло медью. Но все это были пустяки. Он шагал широко и уверенно. И представлял физиономию Мани и то, как они сейчас обнимутся. И Манька будет грустный, чем-то обиженный в жизни, а поэтому еще более дорогой. Они выкрутятся! Вдвоем они обязательно выкрутятся из любой передряги. Держись, Маня! Остались последние минуты. Нет безвыходных положений. Вот так.
Прибой шумел все сильнее и ближе.
Едва заметные во мраке, молчали сопки. Потом они сразу кончились, будто свернулись и откатились назад, черные, колючие. И Шаталов ощутил на лице первую пощечину влажного морского ветра.
— Здорово, ребята, вы и здесь хулиганите? — опросил он у моря и ветра. Внизу виднелась пригоршня огней, светлая полоска причала, темные силуэты кораблей. И от нарастающего радостного чувства Шаталов вдруг рассмеялся — громко, весело. Там, внизу, его ждал Маня.
У прохода на причалы матрос-часовой долго рассматривал, крутил и вертел его документы.
— Или вызывайте ко мне самого капитана третьего ранга, или проведите к дежурному по КПП, — попросил Шаталов.
— Сейчас уже три часа ночи, — вразумительно сказал часовой и нажал кнопку звонка. Через минуту пришел заспанный мичман — дежурный по КПП — и повел Шаталова к дежурному по дивизиону, на плавбазу.
Закачались под ногами доски сходней. Мокрые от ночной сырости поручни привычно заскользили под ладонью. Внизу, между бортом плавбазы и причалом, плескала стиснутая вода. Шипя, вырывался где-то пар. Пресно пахло этим паром, горьковато-маслянистой сталью и еще чем-то неуловимо особенным — запахом военного корабля. Шаталов мог с закрытыми глазами, по запаху различить военный корабль и гражданское судно. И сейчас он подумал об этом.
Лейтенант — дежурный по дивизиону — мельком взглянул на документы, сказал:
— Знаю, знаю! Командир «сто восемнадцатой» уже много дней ожидает вас. Но сейчас он отдыхает. Может, подождете до утра?
— Нет, — сказал Шаталов. — Я не буду ждать до утра.
— Тогда пройдемте. Его каюта по правому борту, номер пять.
— Я найду сам, спасибо, — сказал Шаталов. Лейтенант принимал его за совсем уж штатскую крысу. — Спокойного дежурства.
Шаталов вошел в каюту номер пять без стука и тихонько притворил за собой дверь. В каюте было темно. Только свет палубного фонаря слабо пробивался в иллюминатор. Шаталов прошел к столу, шаря перед собой руками, и осторожно опустился в кресло.
— Манька! И не стыдно тебе дрыхнуть? — спросил Шаталов растерянным шепотом. Ему почему-то не хотелось сразу будить Маню. Хотелось вот так посидеть еще, ощущая позади себя огромную дорогу, которая началась в Ленинграде — нет, еще раньше — в Северной Атлантике — и только что закончилась здесь. И теперь стоит протянуть руку, чтобы коснуться Маниного плеча.
Шаталов опять закурил и бросил спичку в умывальник. Она погасла не сразу. Слабое пламя отразилось в зеркале и медленно затухло. Над головой, по палубе мерно вышагивал вахтенный. Чуть слышно позвякивал ключ в двери — в такт дизель-динамо.
Шаталов сидел в темноте, не сняв шинели, даже не расстегнув ее, курил. Потом решительно поднялся, зажег настольную лампу, отдернул полог койки и сказал:
— Проснись, корсар, я прибыл!
Тяжелое тело стремительно развернулось на койке. Упало в сторону, на пол одеяло. Манька вскочил, и они обнялись и неумело поцеловались. Очевидно, они достаточно помудрели и постарели, потому что ни тот, ни другой не разыгрывали невозмутимость.
— Я знал, что ты прилетишь! Я знал! — бормотал Маня, стискивая шаталовские ребра так, что тот кряхтел. — Я убежден был, если ты жив, то прилетишь!
Они стояли посреди каюты плавбазы подводных лодок. Один в трусах, другой — в шинели. За бортом плескала близкая волна. За иллюминатором вспыхивал на далеком мысу маяк.
— Я знал! — твердил Маня.
— Перестань! — сказал Шаталов, оттянул резинку на трусах командира «сто восемнадцатой», а потом отпустил ее. Резинка щелкнула по животу Мани.
— Черт возьми! Это ты?! Ты! — говорил Маня и стукал кулаком по плечу друга.
— Говори, кому надо бить морду, кто тебя здесь обидел? — спросил Шаталов. — Вдвоем мы со всеми справимся!
— Меня? Обидел? Никто меня не обижал, — сказал Маня.
— Оденься, балда, — сказал Шаталов. — А потом расскажешь все по порядку.
— Это правильно, это я сейчас сделаю… Я тут Пашку встретил недели две назад… Передай-ка китель, он на кресле… Пашка к нам подлодку перегонял Северным путем, а потом я его встретил. И он рассказал, по правде говоря, про тебя, про то, как у тебя дела сложились…
— Я тебе все про себя объясню, а сперва скажи, что за дрейф, в котором ты лежишь? Что с тобой случилось?
— Ах, вот ты о чем?! Тебе причины нужны! А просто так, без причин ты бы ко мне прилетел? Если б я тебя на праздник позвал?
— Праздник — тоже причина, — немножко растерянно сказал Шаталов, вглядываясь в лицо Мани. Высокий капитан третьего ранга, который тщательно застегивал китель, был сейчас совсем не похож на прежнего Маньку. Он погрузнел, лицо потвердело. Флотские погоны рядом с этим лицом не казались нелепыми и странными, как было когда-то.
— А совсем без причин? — спросил Маня.
— Я вижу, ты научился шутить, Алексей, — сказал Шаталов и нахмурился.
— Я мог двадцать раз слетать к тебе, перевести деньги, — наконец сказал он. — Но я решил, что тебе важнее побеспокоиться о ком-то другом и немножко забыть себя, свои беды. Я знал, что рассердишься, если не будет никакой причины вызова.
Маня несколько раз прошелся по каюте, ступая тяжело и в то же время осторожно. Каким-то холодком и отчуждением повеяло от него.
— Есть причина, — наконец сказал он. — Я знал, что ты можешь рассердиться, если причины не будет. И мне невесело сознавать это. И я не тревожил тебя, пока она не появилась… Человек, который трое суток пролежал на грунте после аварии подводной лодки на глубине восьмидесяти метров, имеет право вызвать к себе друга? Да, нас вытащили, и я жив и здоров… Но годы идут, Дмитрий, и море есть море. Ты знаешь, про что я говорю. И мы с тобой как-то все дальше и дальше друг от друга. И это плохо, старик. И тогда, на грунте, у меня было время подумать обо всем этом.
— Трое суток — большой срок, — тихо сказал Шаталов. Он знал, что такое восемьдесят метров зимнего, стылого океана над тобой, что такое трое суток могильной тишины в отсеках и распластанные на койках тела матросов, и нечеловеческое напряжение командира корабля.
— Да, большой, — спокойно сказал Маня. — Мы испытывали новую лодку. Новое никогда просто не дается. Сперва мы сами не хотели ее покинуть, думали, что удастся отремонтироваться и всплыть, а потом… Потом поздно стало… Ослабли здорово. И когда все концы уже были отданы, я написал тебе записочку.
Командир «сто восемнадцатой» умолк, все так же шагая по каюте тяжелыми, осторожными шагами.
— Порвал? — спросил Шаталов.