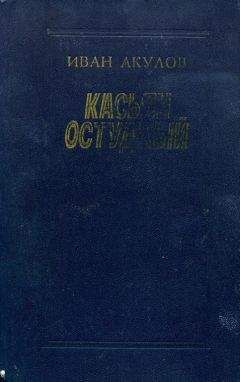Любава развязала красный шнурок и, взяв горсть сушеных листьев, понюхала: на строгом лице ее появилась кроткая улыбка. Яков повеселел:
— Не стыдно в знахарство-то верить?
— А ты главная власть у нас, что же фельдшера не выхлопочешь? Знаете шманать по чужим амбарам. Ведь это только подумать, на что решились.
— Фельдшера-то на земле не валяются. Их выучить надо. А на учебу хлеб требуется. Все, Любава, в узелок затянуто. Нам не развязать.
— А тут человек умирает. Пусть умрет, что ли?
— Не о том мы говорим, Любава.
Любава отсыпала в принесенный с собой стакан сушеной травы, мешочек поставила на место. Яков сознавал, что она уйдет сейчас, и, заступив ей дорогу, совсем унизился:
— Ты вспоминай меня, Любава. Хоть я, по-твоему, и лентяй и амбарник, да потом, Любава, как скажешь, так и жить буду.
— А куда это ты собрался?
— Уж так вот выходит, — Яков замялся, потупился, но тут же поднял глаза на Любаву и признался: — Наган я, к лешему, потерял. В масленку еще. Теперь вот дальняя дорога и казенный дом.
— Вот они, чужие-то слезки. Бог, он все видит.
— Я, Любава, не любил Федота Федотыча и Харитошку да и весь ваш дом с железными засовами и ставнями, а тебя… Да что словом-то скажешь. Речи твои держу на памяти: свою жизнь не могу наладить, а в чужую лезу. Не подкованы мы. Чувствую, что надо вдарить словом по Мошкину, а слова такого нету. Да ладно, конец уж теперь. А Мошкина, какого батя твой шваркнул, выведу на чистую воду. И вы тоже, Кадушкины, до ужасов жадные все. Взяли да отдали бы. Вот она собственность. Она, Любава, всех нас разделила.
— Какая собственность? — Любава сверкнула глазами и первый раз прямо и непримиримо поглядела в глаза Якова — он даже оробел под ее взглядом: — Затеял: собственность, собственность. Ну живи по-собачьи: лег, свернулся, хвостом укрылся. У тебя вот скатерти на столе нету, — а невесту небось ищешь. Неуж за такой стол невесту-то посадишь? Слезы. Стыд. Стыд.
Она пошла к двери, и он пытался разговором остановить ее, мольба и униженность ясно звучали в его голосе:
— За себя, Любава, я все решил. А ты скажи слово. Когда увидимся-то… Я хоть ждать буду.
— Да я скорей, как батя же…
Любава хлопнула дверью и сбежала с крыльца. Он не удерживал ее, но тоже вышел на улицу и, чтобы хоть как-то облегчить свою обиду, криком стегнул ей вслед!
— У вас, у Кадушкиных, кованые замки вместо сердца. Вот и живи с куском железа…
— Ну, девка-матушка, не торопко же ты, — встретила ее Кирилиха и тут же под горячим самоваром заварила кипятком траву — вся изба наполнилась запахом расшевеленной зелени, когда сухие июльские дни перекипают в долгом зное.
Кирилиха поднялась наверх к Дуняше и ребенку, а Любава вспомнила непростую для нее встречу с Яковом у ворот, вспомнила, как хотела услышать его слово, и вдруг заплакала, сознавая с отчаянием, стыдом и болью, что в душе ее нету ненависти к Якову, а есть сострадание, которое она будет беречь как утешающую тайну.
А Яков, вернувшись в избу, не мог взяться ни за какое дело, волнуясь перед открывшейся надеждой, одобряя себя за то, что доверился Любаве и таким образом заставил ее думать о нем. «Да теперь и мне легче — не один я теперь, — думал он. — Теперь и повиниться можно. Чистая душа ее со мной будет».
Было сумеречно. Заря отгорела, и горизонт на закате будто подернуло пеплом, но небосвод все еще был залит светом, и этот живой опаловый свет вздымался прямо, высоко, и там, в вышине, где он заметно опадал и слабел, высеклась и загорелась первая вечерняя звезда. С полуденной стороны через простор заречья к северу налаживался сильный, но мягкий и теплый ветер, бродивший острым хмелем от оживающей земли, лесов, полей и полой воды.
Первый могучий порыв весны шумно и широко катился над суровыми далями. Все оживало и все менялось на глазах. Извечная потаенная работа пробуждения совершалась ночами. С теплыми ветрами, тоже все ночью, с юга летят птицы, и когда они однажды утром внезапно объявятся, хлебороба так и возьмет за сердце: ведь, истинный Христос, проглядел он что-то, не успел с чем-то, хотя и ждал весну и в расчетах не ошибся.
Аркадию не терпелось побывать на пашне, походить по межам, может, где-нибудь и ручеек надо повернуть на свою земельку — летом всякая капелька зернышком обернется. С этими хозяйскими думами и пошел в огород следом за Машкой.
Машка не стала заходить в баню, а села на скамеечку у двери и сняла свой платок. Ветер прошелся по ее волосам, обвеял лицо, шею, она навстречу ему расстегнула жакет, и что-то молодое, весеннее, горячее так и всплеснулось в ее груди. «И скажу вот: не к чему больше прятаться. Бери в жены. Коль угодна, так в ниточку выпрядусь. За две весны хозяйство поставим — гордиться будешь».
— Чего сидишь тут? — спросил Аркадий, подходя к бане и подбрасывая на ладони коробок спичек. — Чего ты?
По ее взволнованному дыханию, с которым она поднялась ему навстречу, Аркадий уловил душевный подъем, почувствовал блеск ее глаз и, чтобы передать ей свою радость, ласково приблизился к ней:
— Какая ты это?
— Да уж весной совсем пахнуло.
— Машка, сегодня же день мученика Федула. А в месяцеслове сказано: пришел Федул и теплом подул.
— Вот еще… Давай тут, Арканя, посидим.
— Давай и посидим.
Они опустились на скамеечку.
— От тебя новым ситцем пахнет, — Аркадий спрятался лицом на Машкиной груди, а руками заполз под ее жакет, стал с властной нежностью мять гладкую, на ощупь хрупкую новизну ситца. Машка только что была полна мужества высказать Аркадию собранное в мыслях, но в каком-то легком, осознанном беспамятстве растеряла все. Едва оправилась, будто после глубокого сна.
— Змей ты кровавый — вот кто ты. Сказать тебе хотела, да…
— Федул теплом подул. — Он захохотал и со всей своей настойчивостью повел ее, не слушая того, что она говорила. Машке было немного обидно, что он не желает слушать ее, но в то же время приятно сознавала, что он весел из-за нее, и уступчиво шла с ним, пока совсем не заразилась его веселой определенностью.
— А еще говорят, Федул губы надул. Слыхал небось? Это к чему тогда? — засмеялась Машка и сама набросила дверной крючок. Аркадий занавесил оконце, вздул коптилку.
— Копаешься, баба.
— Это вам бы все скорей да скорей. А нам не к спеху, — Машка была сговорчива, но раздеваться медлила, взялась причесывать свои волосы, оглядывать себя то с одного, то с другого боку. Наконец не вытерпела:
— Что ж на платье-то не посмотришь? Любка на поминки Федота Федотыча отдала.
— А ты уж готова вырядиться?
— Под мышками так и режет — расставлять придется. И в боках жмет. Он мне все-таки не чужой какой был. Вот и вспомню. А за что его извели, спросить?
— В том-то и дело, — опечалился Аркадий и уж совсем хотел разуваться, да замешкался: — Само собой, жалко Федота Федотыча. Такие хозяева нечасто выявляются. Скупой, однако, был.
— Я еще вот, Арканя. — Машка мучилась своим и решилась поставить как условие: — Ты, Арканя, неженатый, холостой, с тебя ровно с гуся вода. А мои шаги все позорные: мужняя ведь я — и нате, по чужим баням.
— Мужняя, так не шастай, — начал сердиться Аркадий, видя, что Машка налаживается на разговор. — Что тебя, на вожжах тянут в чужую-то баню? Ну кто тянул?
— Мне, Арканя, поговорить охота. Чтоб ты посидел со мной, поговорил. Как-то бы одной душой. Тебя Федот Федотыч из всех наособицу выставлял. Ты — что ж… Я кого ни вижу, а на тебя приравниваю. Ты не как все. Знаю наперед — ужалишь, а иду… Тянешь, стало быть.
— Вяжешь, вяжешь мережку — прямей бы как-то.
— Давай оженимся. По баням таскаться — последнее дело. Что уж. Что мы, будто ворованное делим.
— Ворованное слаще. Ты вот змея-то. Ведь, скажи, вывела свое: не мытьем, так катаньем. Мне, Машка, цыганка наворожила жить без жены. Не получится у нас с тобой ни сватовства, ни женитьбы.
Машка молчала, потому что сказала все да и знала, что ей ни в чем не убедить Аркадия.
— У тебя же скоро Титушко придет, отлупит раза два за грехи твои, да и жить приметесь.
— Не нужен он мне вовсе.
— Ай приелся?
— Я об этом не знаю. Я бы, Арканя, ноги тебе мыла, и скажи, воду ту пила.
— Змея ты, Машка: так и вползаешь в душу. А платье к лицу тебе. Под руками, верно, узковато. Жмет, говоришь? — Аркадий пересел рядом с Машкой и стал ощупывать врезавшийся под мышку шов.
— Хоть бы немного пожить нам на глазах у всех, а потом и — в петлю согласна. Я несчастная родилась. Счастья мне все равно не дано.
— Погоди малость, — Аркадий ладонью прикрыл Машкины губы и стал прислушиваться. За стеной бани хрустнуло стекло, которым мать Катерина по весне закрывает всходы огурцов, а к осени стеклышки стопочкой складывает в уголок у бани. Было слышно, как стекло раскатилось, и на него опять ступила неосторожной ногой.