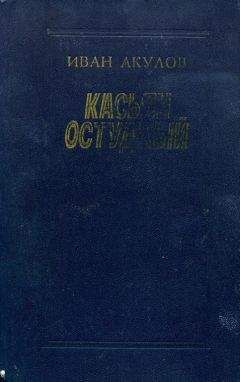— Я, товарищ Мошкин, понял вашу притчу и скажу прямо товарищу Баландину, что вы, Мошкин, крутые колена гнете. Уверяю вас, мужики постоят за хлеб и сдадут. Тем более на ссыпке за хлеб сулят ситцу и сахару. Мошкин заявление Умнова принял за обычную трусость и не придал ему никакого значения, а самого Умнова похлопал по тугому кожаному плечу:
— Не теряй-ка время. Ступай. Да смелей берись. И парень ты правильный, да огонька мало. Эх, возьмусь я за тебя. Я тебе угольков подсыплю. Ступай, ступай.
Мошкин сел за стол и еще рукою подозвал к себе в чем-то нерешительного и замявшегося у порога председателя, для большего веса заговорил шепотом, хотя слышать их никто не мог:
— Письмо везешь важное. Возьми наган да и вообще помалкивай, с чем едешь. В округ и в округ. Мало ли. Боже упаси, ежели не сохранишь али что другое прочее. За себя Бедулева оставь и пусть все время будет в Совете. Тоже непоседа, все на крыле бы держался. Выдвиженец.
Отпустив Умнова, Мошкин причесался, продул свою изреженную расческу и поиграл ею по ногтям. Стал ждать прихода Ягодина, Жигальникова, Егора Бедулева. Он был в приподнятом настроении, потому что — по его убеждению — нашел правильное решение вроде бы совсем неразрешимой задачи: напуганные арестом влиятельных хозяев мужики без понуканий повезут хлеб. «Не удержишь потом, когда поймут, что уговоры кончены. Эх ты, путаная крестьянская душонка», — удовлетворенно итожил свои мысли заготовитель Мошкин.
А Яков Назарыч забежал в свое не согретое еще жилье, напугал и без того одичавшую и обгоревшую на пожаре кошку, побрился и сел в двухколесную таратайку, запряженную и поданную дедом Филином, который напоследок ласковой рукой выбрал попавшую под хомут гриву молодого конька и, передавая вожжи в руки Умнова, предупредил:
— Гляди, Назарыч, конь, язвить его, шалый: прошлого году в Митькиных лужках его медведь совсем было обратал. Пугливый, лешак.
Но Яков Назарыч был занят своими мыслями и слов конюха почти не слышал. Вскинул вожжи, и жеребец крупно пошел по дороге, с пружинящей силой ударяя в грязь тяжелым кованым копытом. При выезде из села остановился у дома Бедулевых.
Сам Егор в красной распущенной рубахе с ремнем в руках ходил по двору и ругался. На коньке конюшни тоже в красной и тоже распоясанной рубахе сидел босоногий малец и щербато шепелявил:
— Шавелко!
— Чего воюешь? — спросил Умнов в расхлябленные ворота, не сходя с таратайки.
— Тебе вот жизнь — умирать не надо: одна голова не бедна, а и бедна, так одна. А у меня напорола косяк, утроба бездонная. Старший, холера, Савелко который, начисто от рук отбился. Ни в чем не пособит. Одна забота — клуб да клуб. Вот найду. А уж найду… А ты куда?
— Уполномоченный распорядился, чтобы ты сел на мое место. Иди сейчас же. А я в округ. Дела, конечно. А то что же еще. Может, задержусь.
Егор сдвинул свою тонкую телячью шапку на затылок, погладил светлую растительность у рта, прикрыл улыбку.
— Ты давай и задержись для дела. Мы тут, — знамо, все как быть надо. — Егор не дождался, когда отъедет Умнов, побежал во двор, выкрикивая: — Фроська, сапоги мне помой.
Дорога была неудобная. Снег почти сошел, но неглубоко протаявшая земля еще плохо брала влагу. Колея была сплошь залита грязной жижей, а в низинах стояли широкие лужи. Зато на припеках колеса таратайки, казалось, отдыхали — катились бесшумно по пригретой и уже мягкой земле. В легкой тени березовых колков было сыро и прохладно, лежал грязный снег, и лошадь проступала его насквозь, разбрызгивая по сторонам.
Яков Назарыч опустил вожжи, чтоб лошадь сама искала дорогу, и в думах не замечал ничего вокруг. Солнце глядело весело; в теплых застойных укромах на колени Якова садились и дремали крупные золотистые мухи.
Кругом было тихо, и вдруг в спокойном величии широкого весеннего дня он твердо сказал себе, что переменит свою жизнь и вернется в село иным человеком, с которым Любава Кадушкина станет говорить без превосходства и насмешки, а открыто и доверчиво. «Да, но наган — вспомнил он. — Наган. Наган. Да черт с ним, с наганом, не расстреляют же. Ну, с кем беды не живет. Потерял и потерял. Повинную голову меч не сечет. И пусть посадят — стану работать. Вот растеребим запасливых мужиков, самим придется кормить и себя, и город. Советская власть всех приставит к делу. Только сделать это надо не руками Мошкина, а примером работящих Зимогоров, Оглоблина, Машки, Титушка…»
Яков Назарыч совсем успокоился и не сразу заметил, как в кустах слева от дороги словно кто-то перебежал и притаился. Яков сперва не поверил этому, но почуяла и лошадь неладное — вскинула голову и начала прядать настороженными ушами. Яков со дна таратайки подвинул под руку топор и стал глядеть на кусты. Когда поравнялся с приметным местом, то увидел в ольшанике мерлушковую шапку.
— А ну вылазь! — крикнул Умнов. — Вылазь, говорю, то всажу пулю.
Из зарослей на дорогу вылез Савелко Бедулев в грязных сапогах, стеганой куртке, красный с перепугу. Он с виноватым видом не глядел на председателя и не подошел близко. За спиной у него на веревочных лямках висел мешок из прочного белого холста.
— Что ты здесь делаешь? — еще не поборов оробелости, а потому сердито спросил Умнов и вдруг рявкнул: — Кто подослал?
Последний вопрос у Якова Назарыча возник как-то сам по себе и сразу встревожил его: «Выслеживать подослан. Не иначе. Именно выслеживать. Кто его послал?»
— Кто сказал, что я должен ехать в город? Кто еще с тобой? Кто, спрашиваю, послал? — Яков Назарыч торопливо сыпал вопросами, оглядывался по сторонам, и Савелко понял, что председатель подозревает его в чем-то серьезном.
— Застрелю как кулацкого прихвостня, — Умнов настолько поверил в свою догадку и так растерялся, что истинно лапнул себя за пустой карман кожанки: — Застрелю, пащенок.
— Да ты, дядя Яков, — Савелко задохнулся и чуть не плакал от радости, что нету за ним той вины, о которой говорит председатель: — Что это выдумал, дядя Яков…
Умнов по радостно наслезившимся и просиявшим глазам Савелко понял, что напрасно испугал и себя и парня своими подозрениями.
— Да скажешь ты наконец-то?
— Скажу, дядя Яков. Чего не сказать. В город пошел. Зачем? Да вот пошел. Совсем, дядя Яков. Навовсе.
— Как совсем?
— Да так. Жить буду у крестной.
— Если ты и на самом деле в город, садись. Садись, садись. Веселее вдвоем. Сними мешок-то да в ноги его. Вот так. Что у тебя в нем?
— Еда. Бельишко. Да мамка крестной шерсти послала.
Савелко сел в таратайку рядом с Яковом Назарычем, и они тронулись дальше.
— Вроде и разговора такого не слышал, чтобы тебе в городе жить. С весны вот работы колхозные развернем, а ты убегаешь.
— Да уж так вышло, дядя Яков.
— Из-за чего с отцом-то разругался?
— А ты как узнал, дядя Яков?
— Я все, Савелко, знаю. Поэтому ты не таись.
— Тятька каждым куском стал попрекать.
— Потому что мало помогаешь отцу — большой ведь.
— Конечно, нас, едоков, у него много, а он один. Вот мы и сговорились с мамкой…
Таратайку сильно качнуло на ухабе, мешок Савелки подбросило и плотней уложило в угол, а в глаза Якову Назарычу бросились буквы на мешке, застиранные, но достаточно видные «Бр.» и «Ок».
— Савелко, а ты знаешь, что нынче обворовали хлебную яму у братанов Окладниковых?
Савелко замялся, поглядел на мешок и побледнел, увидев чернильные буквы, которые вроде бы исчезли при стирке.
— Ты ведь, Савелко, обнаружил эту яму. Вот и расскажи, что да как. Хотя я и без того знаю, да вот еще раз проверю твою честность.
— Нашел и сказал тятьке. Разве он не говорил тебе? А я-то думал…
— Да ты говори, говори.
— А что еще-то, дядя Яша? Тятька ночью привез мешки, а мне сказал, вякнешь-де словечко — свиным ножиком по горлу дерну. Во сне. Ты его, дядя Яша, знаешь: лютый он. Чикнет — и в жизнь наплевать.
— Так ведь это когда было, Савелко. А теперь-то вы из-за чего поссорились?
— А что он все одно и одно: ешь мой хлеб да ешь мой хлеб. Я и сказал ему: ем, да не твой, а кулацкий. Он с топором на меня. Не мамка, может, зарубил бы. Ночевал я у Матьки Кукуя, а мамка собрала мне мешок и проводила. Наревелись с ней на Вершнем увале. Как все-таки, навсегда ведь.
Савелко потупился.
— М-да. Варнак ты, Савелко. Ай, варнак. Отцовского слова не стерпел.
— Мамка подсказала. Ей тоже обидно: он и ее оговаривает на каждом жевке.
— И тятька и мамка — оба хороши. Может, и правильно, что наладился в город. Свою жизнь начнешь. Другим человеком станешь. Все это, Савелко, от нищеты. Покончим вот с ней, другая жизнь пойдет.
Яков Назарыч надолго умолк, думая о том, что обязательно поговорит с Баландиным прямо и откровенно. «Вся жизнь пошла — узелок на узелке. Не в раз разберешься, кто прав, кто виноват, а Мошкин знает одно — брать через колено. Гнет не паривши, сломав — не тужит. Да и вообще скажу: негоден я к руководству по причине своей темноты безграмотной, и по утере оружия, само собой. Наган — черт с ней, с железкой. Души людские топчем. Детей втянули. Вот об таком деле, товарищ Баландин, надо бить в набат. Все переживем: и голод, и разорение, и пожары, и недороды, — только не озлобить бы ребячьей памяти, чтобы жевали они досыта хлеб из доброй и согласной руки…»