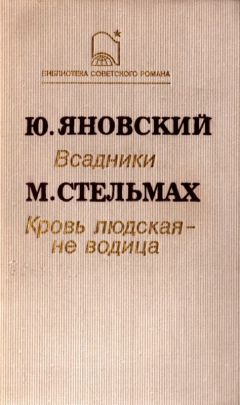И тогда резко выступил Юрко Тютюнник. После его речи от петлюровского плана пошел дурной запах, как от лопнувшего пузыря. Вместе со своим планом наступления Тютюнник предложил на всякий случай разработать и план отступления: война есть война, и всякие могут быть неожиданности. Вокруг этого предложения разгорелись споры; об отступлении все министры и головной атаман не желали думать — бежать можно было и без плана.
Когда рассерженный Тютюнник, заломив черную высокую шапку, ушел в штаб своей части, а министры, под охраной стрельцов, разбрелись на ночь по комнатам каменного дома директора Ялтушковского сахарного завода, кто-то пустил слух, что генерал-хорунжий собирается арестовать «правительство» Украинской народной республики. Перепуганные министры сбились в одну комнату, с ужасом ожидая решения своей судьбы. Но арестовывать их никто не пришел, и утром сам Тютюнник немало был изумлен тем, что все «украинское правительство» собралось в такой тесноте. Кто-то сказал, что министры обдумывали дату наступления, хотя на самом деле они больше всего были озабочены мыслью, как бы выскочить на своем грузовике из Ялтушкова в Каменец-Подольск.
Наступление по всему фронту было назначено на двенадцатое ноября. А на рассвете одиннадцатого под Старой Мурафой заиграли трубы Четырнадцатой советской армии. Восьмая конная дивизия первой ударила на петлюровцев. У нее был приказ прорвать фронт и отрезать от него петлюровскую конницу, стоявшую возле Могилева-Подольского.
Рейд Восьмой дивизии начался удачно: уже в селе Шестаковке вчерашние новоушицкие хлеборобы, насильно мобилизованные Петлюрой, стали бросать оружие и сдаваться в плен. Пока Восьмая дивизия захватывала Ивашковку, Лучинец, Кукавку, Вторая бригада прорвалась на Могилев и после жестокого боя с конницей Фролова ворвалась в город. Южная петлюровская группа, не сдержав натиска Четырнадцатой армии, отступила, частью переправилась через Днестр в Румынию. Несколько дней петлюровцы с успехом сражались на севере: здесь дивизия Яковлева на Летычевском направлении взяла Литын, а дивизия генерала Перемыкина из Дерашни продвинулась на Жмеринку. Но уже шестнадцатого ноября обе дивизии отступили под ударами Красного казачества.
Петлюровская свеча горела с обоих концов. Тогда головной атаман бросил в бой свои последние резервы — десять тысяч стрельцов, бросил уже не для победы, а для того, чтобы они своей кровью прикрыли переброску за Збруч имущества министров и казначейства. Петлюра и все министры, кроме Архипенка, бежали от своих войск на ту украинскую землю, которую они отдали во владение Пилсудскому. И польский Бонапарт не забыл услуг кобеляцкого корсиканца: Пилсудский подыскал для Петлюры столицу — маленький городок Тарнов. Там в гостинице «Бристоль» уместилась вся «государственность» головного атамана: все министерства, послы, военно-походная канцелярия, типография и сам головной атаман со своим Малютой Скуратовым, как прозвали его приспешники Чеботарева.
В пропахших кухней покоях «Бристоля» головной атаман, быть может впервые в жизни, ощутил эфемерность своей власти. Петлюра созвал все свое высокое окружение и на межпартийном совещании трагическим голосом известил об «акте величайшего исторического значения»: он, головной атаман, подписал свое отречение.
Он надеялся, что межпартийное совещание будет слезно умолять его остаться у власти. Но совещание, деморализованное последними событиями, молчало.
И это ошеломило Петлюру больше, чем поражение на фронте. Он глазами молил, чтобы хоть одна живая душа сказала, что Украина не может существовать без своего головного атамана. Но на него смотрели полумертвые души, лишенные дара речи и веры в атамана. В ярости он хотел было гордо покинуть мертвый зал, но жалость к себе и возмущение неблагодарностью единомышленников вынудило его произнести новую импровизированную истерическую речь, после чего головной атаман неожиданно для всех порвал свое отречение, найдя, должно быть, что лучше иметь хоть гостиничную государственность, чем не иметь никакой.
Двадцать первого ноября последние петлюровские части и обозы под прикрытием войск Тютюнника бежали через мост на правый берег Збруча. Переправой никто уже не командовал. На мосту все смешалось в кучу. Возы наскакивали на возы, стрельцы и ездовые с бранью пробивали себе дорогу кулаками, телеги и лошади летели в воду, и предсмертное лошадиное ржание не трогало полуошалевших людей. Призрак Котовского наводил ужас на остатки петлюровских частей, и только самые смелые ломали на берегу оружие, чтобы оно не досталось полякам, и, плюнув на имущество, перебирались с голыми руками к своим вчерашним союзникам. А те бесцеремонно ощупывали их, забирали все, что можно забрать, не брезгуя даже часами с руки или шинелью с плеча, была бы только не слишком потерта.
Бригада Котовского уже приближалась к Волочиску и летела на Збруч, когда на мост, пробиваясь сквозь остатки «дикой» дивизии черношлычников и желтошлычников, прямо в месиво тел втиснулся подполковник Погиба. Его, одетого в крестьянскую свитку, чуть не столкнули в холодные волны реки, на которую уже ложились густые сумерки. Погиба с ужасом вцепился в ближайших петлюровцев, и человеческий водоворот выбросил его на другой берег. Можно было бы наконец легко вздохнуть, но сразу же на него налетел низкорослый, толстый жовнир с сизым носом, под которым торчали клыкастые усы. Оружия у подполковника не было, но жовнир вцепился в его руку, пытаясь сорвать обручальное кольцо. Погиба, не долго думая, тихо, без размаха ударил кулаком в то место, где сходились нос и усы мародера; тот дико вскрикнул, пошатнулся, и подполковник метнулся в темноту, где звенело оружие и смешивалась отборная брань союзников.
После голодных мытарств в Тарнополе Погиба вместе с пятью тысячами петлюровцев попал в болотистый Вадовецкий лагерь, сооруженный еще австрийцами для русских пленных. И здесь польские коменданты принялись голодом, холодом, жестокостью донимать солдатское мясо, готовое отправиться хоть к черту в зубы, лишь бы оставить обнесенный колючей проволокой полуразрушенный лагерь.
Гороховый суп, на поверхности которого вместо шкварок плавали свернувшиеся колечком черви, вонючая конина вызвали в лагере возмущение, но оно тут же было подавлено оружием союзников. Труднее было справиться с желудочными болезнями, чесоткой и страшными язвами.
Тысячи людей, загубленных за чужие грехи, оплакивали свою Украину, и лишь названия родных городов и сел звучали над ними отдаленным пасхальным благовестом. Вчерашние воины в соломенных или долбленых деревянных башмаках тенями сновали по лагерю, проклиная и себя и головного атамана, который так и не отважился приехать к ним из своей резиденции в отеле «Бристоль».
Подполковник Погиба, потеряв надежду, что его спасет Петлюра или кто-нибудь из высокого окружения атамана, с ужасом смотрел на последние конвульсии атаманщины и боялся только одного: опуститься до того уровня, когда жизнь потеряет уже всякую ценность. Пока у него были разные дорогие мелочи, он выменивал их на харчи, следил, сколько мог, чтобы не заели вши, а когда снял с исхудалого пальца последнюю ценность — обручальное кольцо, почувствовал, что все в жизни уже позади и не за что больше бороться. И в тот же день вши, предчувствуя обреченность жертвы, прямо-таки градом посыпались на него.
Из-под серебряной стужи утреннего тумана выходят с солнцем тополя. На потрескавшейся коре тает розоватый иней, и вскоре деревья окутываются паром, словно теплое дыхание обвевает их. На ветках золотыми сережками покачиваются последние листочки, а на побелевшей траве еще темнеет прошва заячьих следов.
Данило Пидипригора, прижимая к груди закутанного Петрика, выходит на край села, разбросавшего по лесу беленькие хатки. У колодцев и на перекрестках уже меньше крестов — тиф больше не свирепствует в повеселевших селах, и реже налетают по ночам бандиты. После разгрома Петлюры власть сразу взялась за атаманов и батек, не сложивших оружие. Вот и сегодня где-то под Вербкой стрекотали пулеметы, и лошади без всадников добегали до самых Березовских лесов.
— Мама-мама, мама-мама! — кричит Петрик и размахивает ручонками.
Он заметил между деревьями мать.
Она легким шагом подростка спешит к своей семье, а в руке у нее раскачиваются нанизанные на лозину самые поздние грибы — зеленки, которые уже в первые заморозки подымают землю в сосняке и упрямо стоят под ее прикрытием.
— Соскучился, маленький? — Галина берет из отцовских рук сына, и Петрик привычно ищет грудь, хотя мать уже отняла его.
Лесная дорожка вздыхает, шелестя опалым листом, вьется между стволами и, словно в сказке, ведет в неведомые дали, туда, где солнце просыпает зернышки лучей на остывшие прогалины. Петрик снова переходит к отцу, а Галина, поправив под платком тяжелые косы, углубляется в дубраву, бережно срывает гроздь спелой калины и вдруг вскрикивает: