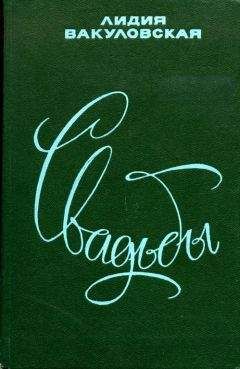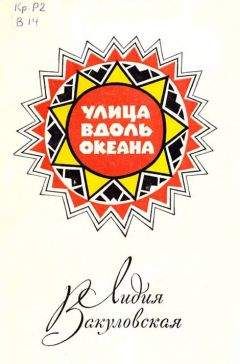— Что ты здесь видишь в темноте? — сказала ему Надя, подходя к сараю, где была протянута бельевая веревка.
Николай промолчал. Надя повесила передник, подошла к нему, присела на козлы, сказала:
— Коля, я сразу догадалась. Она опять приходила?
— Это неважно, — угрюмо бросил он.
— Ты думаешь, ей сладко живется? — помолчав, спросила Надя.
— Какое мне дело: сладко или кисло? — Он не оборачивался к жене — затягивал ключом гайку.
— Ты не думай, что я тебя заставляю… — Надя опять помолчала, потом сказала: — Может, она правда бедствует. Может, как-то помочь не подачками…
— Это с какой стати? — Он резко обернулся к ней.
— Не знаю… — вздохнула она. — Может, просто по-человечески…
— По-человечески?! А она — по-человечески? — раздраженно и громко спросил он, бросив на землю ключ. — Шаталась по свету, теперь…
— Тише!.. — остановила его Надя, указав рукой на веранду.
Двери освещенной веранды были раскрыты, оттуда доносились голоса Аленки и Евдокии Семеновны.
— Как это — «не хочу причесываться»? Услышал бы дедушка Вася, он бы тебя и любить не стал, — говорила Аленке Евдокия Семеновна.
— А вот и стал бы, — отвечала Аленка. — Я завтра в школу пойду и причешусь. А сегодня все равно скоро спать. Лучше завтра, правда, бабушка? — Голосок у Аленки был хитроватый и смешливый.
— Лучше бы и сегодня и завтра. Но ты у меня упрямый козлик.
— Как дедушка Вася?
— Разве наш дедушка Вася был козлик?
— Нет, он не козлик, — засмеялась Аленка. — Но ты сама говорила, что мой папа упрямый, как дедушка Вася, помнишь?
— Не помню, но, наверно, говорила.
— А почему тогда я козлик? Мне можно быть козликом, а дедушке и папе нельзя?..
— По-человечески!.. — снова, но тише повторил Николай и тоже кивнул на веранду, где бабушка с внучкой продолжали свой легкий, бесхитростный разговор. — Ты бы могла бросить Аленку, Толика?
— Зачем сравнивать? — ответила Надя. — Я ведь сказала, что ничего тебе не навязываю… И не права я, конечно же, не права. Ты меня не слушай.
С веранды выглянула Евдокия Семеновна.
— Надя, Коля, где вы там? Ничего не вижу со света… Ступайте ужинать!
— Идем, мама, идем! — ответила Надя, поднимаясь с козел.
Она взяла Николая за руку и повела его к веранде.
Купить дрова и уголь на топливном складе было не так-то просто. Уголь выдавали горожанам по специальным талончикам, распределял эти талончики сам начальник планового отдела райисполкома, попасть к нему было почти невозможно: то он уехал по району, то на совещании, то к нему очередь в сто человек. Словом, сплошные сложности. Но когда наконец-то талончики уже были в руках у Николая, оказалось, что топливный склад не имеет машин для перевозки купленного. Сервис заключался в том, чтобы хорошенько побегать по городу в поисках какого-либо «левого» грузовика. Николай остановил машин десять, каждый шофер готов был «войти в положение», то есть подкалымить. Но только в черте города. Выезжать за город никто не решался. Лишь к концу дня ему попался самосвал, и попался удачно — машина была из Лободы и порожняком возвращалась в село. К счастью, топливный еще не закрылся, они быстро загрузились и поехали. Шофер был пожилой, степенный с виду и взял по-божески: всего пять рублей. Николай сразу расплатился.
Двадцать километров проехали быстро. Дорога была хорошая — асфальт, все время шла лесом. Осень цветисто размалевала лес, сменив зеленый летний колер на множество цветов, от сочно-желтого до густо-кровавого. Деревья еще не обнажились и ударяли в глаза резкой яркостью красок.
Так по лесу, по лесу и вкатили они прямо в Лободу, не сказав друг другу ни слова за дорогу.
— Теперь куда? — спросил Николая хозяин машины.
— За мостик, где магазин. Там влево свернем, — ответил Николай, и сам удивился: так четко он запомнил с мальчишества эти приметы — мостик и магазин!
— У нас два мостика и два магазина, — сказал шофер. — Один возле клуба, другой перед детсадиком. Какой из них?
Этого Николай не знал, посему и не ответил сразу. Шофер догадался, что он не знает, и снова спросил:
— А кому везем? Я тут всех наперечет знаю.
Николай сглотнул слюну и назвал фамилию. Шофер ничего не сказал, но через малое время спросил:
— А кто вы ей?
— Никто, — ответил Николай. И добавил: — Знакомый попросил забросить.
Тогда мостик был деревянный (это он тоже отлично помнил), теперь стал бетонным. Тогда под деревянным текла речушка, теперь чернела пересохшая канава.
А хату он не узнал. Быть может, узнал бы, если бы окна были крест-накрест зашиты досками. Но окна глядели на улицу немытыми стеклами без занавесок и находились почти у самой земли, поскольку вся хата глубоко осела в землю. Половина забора у хаты, отделившись от другой половины, свесилась на улицу и удерживалась в таком неустойчивом положении только потому, что в нескольких местах была подперта кольями. И ворота у этой хаты были не как ворота: одна перекошенная половина болталась на петлях, другая стояла на земле, прислоненная к калитке.
— Во двор въезжать или тут скинем? — спросил Николая шофер, остановив возле хаты самосвал.
— Во двор, — почему-то решил Николай.
Он вышел из кабины открыть половинку ворот. За ним выбрался и шофер: помочь ему отнести в сторону другую половину тех же ворот.
Во дворе никого не было, как не было в нем и запомнившихся с детства лопухов и крапивы. Но двор был неприбран: валялись пустые консервные банки, битое стекло и всякий хлам. Однако люди в хате были, там кто-то играл на баяне. Этот баян удивил Николая.
— Играют… — недоуменно сказал он шоферу.
— Это хахаль ее, — ответил тот.
— А черт его знает, кто он. Может, и муж какой. Вдвоем они откуда-то заявились. У него пенсия шестьдесят целковых. Как получит, гуляют, пока не спустят, а он на баяне наяривает. А вот и сама хозяюшка!.. Принимай груз, божья грешница! Уголь с дровишками, — непочтительно ухмыльнулся шофер.
Николай обернулся. На крыльце стояла она. На ней был какой-то несуразный халат в розах и мужские резиновые сапоги. Она пошатнулась, но успела ухватиться рукой за дверной косяк.
— А, сын мой, Колечка!.. — сказала она голосом, лишенным всяких просяще-жалостных ноток. И крикнула в хату: — Ванюшка, брось играть, сын мой приехал!.. И все они явятся, все! И Петечка и Верочка!.. Кровушка моя в них, кровушка моя прикажет явиться!..
Из хаты вынырнул щуплый мужичишка, с усами и с баяном в руках. Неровными шагами он двинулся от крыльца к калитке, расплываясь улыбкой и говоря:
— Рад знакомству!.. Прошу к нашему шалашу!.. Чем богаты, тем и рады!.. Я детей люблю и уважаю… А который из вас сын?..
— Что смотреть на них? Сгружайте, — спокойно сказал шоферу Николай. — Выпили и несут ерунду. Сгружайте, а я пошел. Пока.
Николай кивнул шоферу и быстро зашагал по улице, ни разу больше не оглянувшись.
Он шел той же дорогой через лес. Голова у него была тяжелая и совершенно пустая. В ней не было ни одной мысли, конкретно с чем-то связанной. Только пошумливало в голове тем же медленным, монотонным шумом, каким пошумливал вокруг него лес, обреченный на зимнее, всего лишь на зимнее, а не на вечное умирание. Его обогнало несколько машин, но он и не подумал останавливать их. Какая разница, когда кончится эта лесная дорога: к утру или к завтрашнему вечеру, или по ней предстоит идти неделю и весь месяц, пока у него не кончится отпуск?..
Ранние сумерки надвинулись на дорогу, из кюветов пополз вверх седенький легкий туман. Но вскоре он так загустел и распух, что не стало видно ни самой дороги, ни деревьев на обочинах. И была минута, когда Николаю показалось, будто ничего-то иного и не существует на земле, кроме этого мокрого, липкого, давящего тумана.
Никак не ожидали сестры, что этот субботний день, протекший до предвечерья так же неприметно, как и многие другие дни до этого, принесет им столь великую радость. В их нынешней жизни, помеченной преклонными годами, не обремененной службой, в этой их домоседской жизни все радости заключались в интересной книге, в том, что сосед выбрал время и почистил дымоходы, что у крыльца удачно принялся черенок прихотливой крымской розы, что, перезимовав в Африке, к ним вернулись ласточки.
И иные подобные вещи, мало значимые для других людей, доставляли сестрам приятность.
Ни в молодости, ни теперь, в старости, сестры внешне не были похожи. Старшая, Надежда Григорьевна (ей шел восемьдесят первый год), была высока и костлява, с густыми седыми бровями на удлиненном пергаментном лице, разделенном как бы на две половины крупным носом с крутой горбинкой. Младшая, Виктория Григорьевна (ей исполнилось семьдесят шесть), напротив, была низкого роста, полненькая, круглолицая, с маленьким носиком и постоянным румянцем на щеках. Всю жизнь они прожили в этом городке, в небольшом деревянном доме, построенном родителями еще до их рождения. Обе когда-то учительствовали, имели мужей, которые тоже были учителями, и у каждой было по сыну. Болезни отняли у них мужей, война — сыновей, и вот теперь они коротали старость вдвоем, по-сестрински дружно и неразлучно. Каждая из них по паспорту носила фамилию мужа, но в городке за ними почему-то прочно удерживалась девичья фамилия, и люди называли их «сестры Сыромятины».