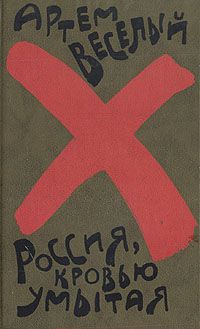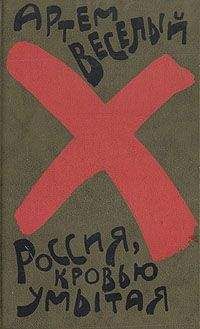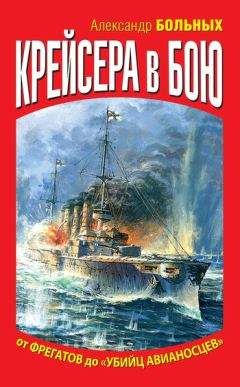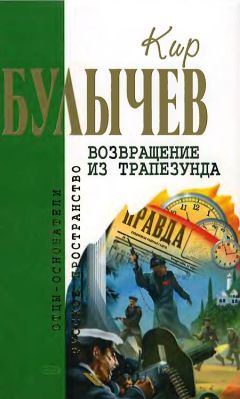У приемочных столов шумели очереди.
— Яшка, здорово.
— А-а… Ты тоже воевать, а говорили, тебя баба ухватом запорола…
— Оторвись ты, Юрлова шайка.
— Ну-ну, жарнём, за нами дело не станет.
— Удалой долго не думает, сел, да и заплакал.
— Хо-хо-хо…
— Подходи, товарищи, налетай, не задерживай!
— Фамилье?
— Пиши, Гаврил Овчинкин.
— Член партии?
— Обязательно.
— Какой ячейки?
— Первая мукомольная.
— Распишись.
— Неграмотен… И пальцев недохваток, на германской растерял, вона.
— Куда же ты без пальцев пойдешь?
— Я не на пальцах хожу, а на ногах… В крайности, пиши в обоз, кашу варить, и то человек нужен.
— Правильно, Гаврюшка, — зашумел заметно подвыпивший низенький и толстый, похожий на мешок муки, крюшник Ведерников, — все до одного пойдем, все помирать будем!.. Душа вон!.. Не поддадимся!.. Никогда сроду не поддадимся!..
Провожали отряд в солнечный воскресный день с музыкой, песнями, речами и клятвами, а проводив, сразу забыли о нем. Жены с детями подолгу и часто без толку толкались в приемных, глотая невеселые сиротские слезы… Город снова и снова впрягся в работу, как немудрящая, но старательная лошаденка в тяжелый воз.
Неловкая история вышла с военнопленными.
Прибыли они двумя эшелонами и остановились, не разгружаясь. Прислали в исполком делегатов: люди голодают, болеют, мерзнут, нужны подводы, одежда, врач. Военнопленные — уроженцы Клюквинского и соседних недалеких уездов — народ битый, тертый, все Европы сквозь прошли. На чужой стороне научились орудовать с машинами, вкусили всяческих наук, и теперь для своей страны они являлись настоящим кладом. Прежде чем пустить в деревню, было решено обработать их.
Павел нагрузил санки литературой и — на вокзал.
Помещение крохотное, митинговать пришлось на запасных путях, на юру. В плеске шинельных лохмотьев, в толпе замученных и смертельно усталых людей Павел говорил недолго — ветер леденил зубы, захватывал дыхание. Спрыгнув с тюка литературы, он сорвал рогожку и подал пачку листовок опаленному морозом солдату:
— Ну-ка, землячок, раздай.
— Не нукай, товарищ, еще не запряг, — смущенно улыбнулся солдат и, не взяв листовок, отвел руки за спину.
Другой из-за его плеча визгливо закричал:
— Зачем нам ваши прокламации?.. Хлеба неделю не видим, это да-а-а…
Застонали, закачались промерзшие голоса:
— Голы, босы…
— Страдали…
— Эх, товарищи… Пять годиков, как пять деньков, понимать надо, чувствовать…
— С самой границы митингами кормите… На станциях кипятку — и того нету…
— Скотинка бессловесная.
— Родина, кровь…
— Гляди, товарищ, разуй глаза!
Из лохмотьев виднелись голые куски тела, обрубки рук. Страшно глянули черные в сухой парше лица и вялые обмороженные уши. Павел, пока говорил, как-то не замечал всего этого. Литературу растащили на раскурку, на подтопку костров, на подвертывание на ноги, чему научились у немцев.
— Вижу, сидите в беде, — продолжал Павел, замешавшись в толпу, — но криком горю не поможешь… Выберите из своей среды комиссию в три человека и сейчас же присылайте в исполком, авось вместе чего-нибудь и придумаем. А доктора вам пришлем немедленно и хлеба наскребем…
За вокзалом Павел перегнал обоз ломовиков: широкие сани были внакат полны трупами тифозных и мороженых солдат.
Держать в голодном городе тысячу лишних ртов не сулило ничего путного, необходимо было во что бы то ни стало протолкнуть их дальше. Комитет, под председательством Елены Константиновны Судаковой, развернул воззвание «Ко всем честным гражданам». По городу был произведен сбор теплых вещей. Исполком, отдел собеза и фабрики подкинули, что смогли. И наконец этот спектакль, открытый длиннейшей речью Елены Константиновны. Она говорила, во-первых, как председательница комитета, во-вторых, как заведующая отделом народного образования и потом вообще любила поговорить на народе. Судакова — члениха исполкома, старая учительница. Вытертая плюшевая шляпка кукишем, вишенки на шляпке. Она отбыла два года ссылки, сидела в тюрьме, о чем не раз напоминала выскочкам и новичкам. Об ее страданиях подробно знала вся клюквинская интеллигенция. Душевную, отзывчивую Елену Константиновну вечно осаждали просители: «Голубушка, ради бога…» Она делала все, что было в ее силах и власти: утешала обиженных, утирала слезы плачущим.
Забежавший в театр на минутку Павел разговаривал с Гильдой в опустевшем после второго звонка буфете. К ним подскочил Ефим, он был одет в блузу рабочего и пенился возбуждением:
— Друг мой, не удирать ли ты собрался?
— Да, ухожу.
— Нет, нет и нет!.. Сегодня ставится моя трагедия!.. Премьера!.. Не пущу! Я и место тебе заготовил… Шпулькин, проводи! Первый ряд, кресло девятое, живо!
Проверещал третий звонок.
Вынырнувший откуда-то, похожий на холерного вибриона, Шпулькин уцепил Павла за рукав, Гильда, смеясь, — за другой, и они дружно потащили его в зал.
На спинку кресла была наклеена чрезмерно яркая надпись редактор. Тугая шея Павла налилась жаром, выругал Ефима, и в то же время довольное сердце стукнуло раз… и два…
С поклоном расступился занавес.
В глубине сцены — фасад тюрьмы. За решетками окон — измученные лица, кандальный звон. На отшибе, на глыбах гранита, в красно-огненном колпаке и в широком малиновом покрывале — Свобода непринужденно опирается на саженный меч.
Заключенные стонут:
— Святая свобода…
— Ты недосягаема, как греза чистой юности…
— Ты несбыточная сказка…
— В душных теснинах фабрик, в темных рудниках и шахтах миллионы рабов страстно мечтают о тебе…
— О-оо… О-оо-оо!..
Под тюремной стеной проходят оборванцы и какие-то люди, по одежде напоминающие подрядчиков или трактирных молодцов, шепчутся:
— Тюрьма…
— Там забастовщики…
— Туда им и дорога… Больно умны стали, сукины дети, мало ихнего брата повешали, постреляли…
— А все-таки жалко, братцы…
— С такими-то речами и сам ты, хлюст, угодишь под цинковую крышу.
Среди оборванцев появляется молодой рабочий, размахивает огромным молотком.
— Товарищи, долг совести и честь гражданская призывают нас разбить эти мрачные своды и освободить борцов за святые идеи… Великая наша страна изнемогает…
На сцене полумрак. Скользя, плывут тени в саванах: у одних на шеях болтаются обрывки веревок, другие несут в руках свои головы. Тени стонут:
— Мы тоже погибли за идеи…
— Меня повесили царские палачи…
— Меня обезглавили…
— Отомстите за нас…
— О-о… О-оо!..
Рабочий призывает пойти по стопам мучеников, среди оборванцев трусливый ропот…
Свобода вздымает меч.
— Жалкие обыватели и мещане… Трусливые гады, вы недостойны меня… Лишь одно море свободно, ха-ха-ха…
Тряхнув плащом, Свобода куда-то проваливается, подымая тучи пыли, от которой чихают и борцы за идею и оборванцы. Прочихавшись, рабочий доказывает необходимость восстания. Восстание. Барабаны, знамена, треск рухнувших тюремных стен. На авансцену выходят плачущие от радости мученики, среди них и Свобода в арестантском халате и цепях; рабочий моментально влюбляется в нее. Множество голосов скрещивается в «Марсельезе».
Зрительный зал подхватывает.
Неистовствует оркестр.
Затем хлынул ни с чем не сравнимый одобрительный свист, восторженный топот ног, и в густой гул, как нож в сало, вонзился визгливый голосок Шпулькина:
— Спокойствие, граждане, антракт пять минут!
К Павлу подсел Капустин, с треском высморкался и тесным говорком задышал на ухо:
— Здорово?.. А?.. Вот тебе и купеческий сын, чего у него башка-то вырабатывает?.. А?.. Мученики, обыватели… И до чего все правильно… Ведь я сам два года по пересыльным тюрьмам скитался, я все это произошел… — Пованивало от него спиртом.
Павла это настолько удивило, что он даже привскочил: Капустин хмельного в рот не брал, и рассказывали, как под Новый год на семейной вечеринке Сапункова, куда его заманили, не только отказался выпить предложенную ему стопку, но разбил посудину с вишневой наливкой и, заматерившись, ушел, чем испортил праздничное настроение собравшихся ответработников.
— Ваня, ты маленько выпивши, пойдем домой.
— Я-то?
— Ты.
— Ни в одном глазу.
— Пойдем, а то я с тобой разругаюсь.
— И не проси. Свобода, мученики… Должен я доглядеть, чего у них получится, — вцепился в витую ручку кресла, и никакими силами его нельзя было оторвать, не поднимая шума.
Павел крепко сжал ему руку:
— Ты что дурака валяешь?.. В такое место пришел пьяный да еще скандальничать хочешь?
— Пашка, не проси и не моли. Тебе сказано…