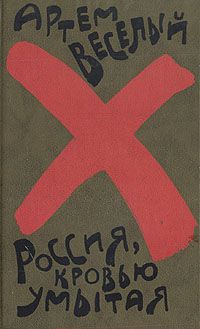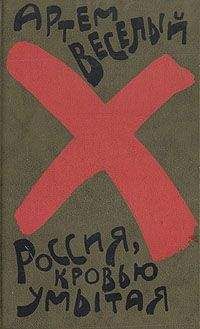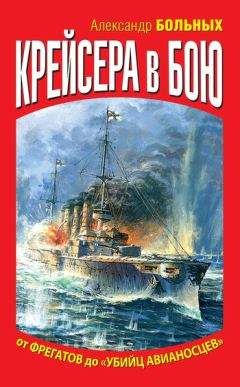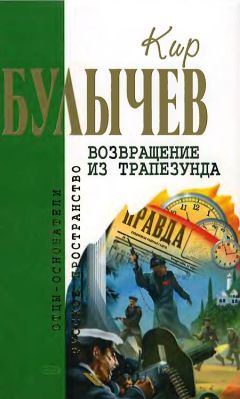— Ваня, ты маленько выпивши, пойдем домой.
— Я-то?
— Ты.
— Ни в одном глазу.
— Пойдем, а то я с тобой разругаюсь.
— И не проси. Свобода, мученики… Должен я доглядеть, чего у них получится, — вцепился в витую ручку кресла, и никакими силами его нельзя было оторвать, не поднимая шума.
Павел крепко сжал ему руку:
— Ты что дурака валяешь?.. В такое место пришел пьяный да еще скандальничать хочешь?
— Пашка, не проси и не моли. Тебе сказано…
Павел усадил его около себя и сунул ему газету, уговорив прочитать какую-то статью.
Проверещали звонки.
Занавес разбежался…
В зале — поток блестящих глаз, раскрытые рты и лица жалостливые, нахмуренные, удивленные.
…Баррикады, телефоны, солдаты с красными лентами на шапках. В стороне тот же рабочий с женой Анной. Старик со старухой прежалобно упрашивают их вернуться домой. Они не соглашаются. Старуха хватает за руку дочь, та вырывается и толкает родную матушку так, что она едва не скатывается в зрительный зал. Рабочий с женой декламируют:
— Уйдите прочь, вы, жалкие и ничтожные кроты!.. Ползайте и пресмыкайтесь во прахе!.. А мы локоть в локоть, плечо к плечу пойдем туда, навстречу новой жизни, и с гребня баррикад первые увидим вновь восходящую над миром прекрасную зарю освобожденного человечества!..
Старики с плачем уходят. В зале смех.
С баррикад открывается продолжительная и ожесточенная пальба. В зале пахнет порохом, гарью, бьется в истерике поджарая девица, ржут солдаты и громом хлопков заглушают стрельбу. Успех полный, но это еще не все. Приводят двух пленных золотопогонников. Далеко не любезен их разговор с рабочим. Перед расстрелом они успевают крикнуть:
— Вся земля помещикам, власть капиталистам!
— Боже, царя храни!..
(Ефим подумывал, что неплохо бы было для усиления впечатления приводить на каждый спектакль из чека по парочке приговоренных и на сцене кокать их.)
На носилках подтаскивают раненых, каждый из них перед смертью произносит речь. Пищит полевой телефон, прибегает запыхавшийся вестовой:
— Белые разбиты наголову!.. Ура!..
Этим трагедия и кончилась. Под непомерной тяжестью восторга стонал пол, с театра готова была сорваться крыша.
С плохо смытым гримом в зал прибежал сияющий всеми своими гранями Ефим, схватил Павла за руки:
— Ну, что?.. Как?.. Ничего?.. А?.. Ведь правда ничего?.. Понравилось?..
— Молотком-то ты махал столярным… Он хотя и большой, а столярный, таким не куют.
— Ерунда, молоток можно исправить… А свою трагедию я в Москву пошлю.
— Посылай, брат, советую.
— А-а-а, здрасте, товарищ Капустин, извините, я вас и не разглядел… Волнуюсь, как ребенок… Так советуете послать? Понравилось? Как, ничего?
— Крепко, — убежденно сказал Капустин. — Злее, чем у Гоголя… Там все про хохлов, мура какая-то…
Утопая в словах, как в песке, Павел спросил:
— Кто это?.. Ну, твоя жена?
— Гильда?..
— Нет.
— Ах, Анна… Ты про нее спрашиваешь?.. Сегодня она в ударе! Не правда ли?.. Так это же Лидочка Шерстнева, из концентрациошки, помнишь, бумажку подписывал?.. А что, понравилась?.. Недурна девочка. Не правда ли?.. Сделай милость, пойдем познакомлю… Да вот она и сама, легка на помине…
Подлетела с кружкой:
— Пожертвуйте, товарищ.
Пышная, душистая, брови вразмет.
— Познакомьтесь… Лидочка Шерстнева, по сцене Дарьялова-Заволжская… Редактор Гребенщиков, — ему вы, Лида Михайловна, обязаны своим освобождением… А это товарищ Капустин, Иван Павлович… ха-ха-ха, наш красный губернатор.
Улыбнулась Капустину, чуть подкрашенную улыбку задержала на лице Павла.
— Вы председатель коммунистов?.. Я о вас так много слышала, так рада… Пожертвуйте на бедных солдатиков, которые…
— Знаю, — буркнул он, не глядя и видя ее. Жесткой рукой встряхнул ее теплую кошачью лапу, и мороз порснул по его лошадиной, сразу вспотевшей спине…
По рассеянности сунул ей в кружку ярлык от вешалки. Играя зеркальными глазами, она поболтала еще минутку и убежала в толпу.
— Ну, пошли, — решительно сказал Павел, зачаливая Капустина под локоть, — нагляделись.
— Уходите? — вскинулся Ефим. — А восточные танцы в исполнении Лидочки? Чрезвычайно любопытно…
— Некогда… Дела… Ваня, пошли.
На улицах — горбатые сугробы, сверкающая тишина. Обдутый ветром и быстро посвежевший, Капустин начал выматывать из себя обиды:
— Декреты мы писать пишем, а мужика не знаем и знать не хотим… Где надо брать срыву, а где и исподволь… Окажи мужику уважение, капни ему на голову масла каплю, он тебе гору своротит.
— Время горячее, Иван Павлович, а мужик жаден: капать тут некогда, плескать только успевай… Вот и приходится ему на глотку наступать: «Твое — мое, дай сюда».
— Время горячее… Мужики это понимают, а которые прикидываются дурачками, так мы им приказываем понять… «Дай хлеба» — дали. Ворчат, а дают. Через месяц разверстку до последнего зерна собрали бы, а нынче прибегает ко мне Лосев, бумажонки кажет. «Вот, говорит, в центре вышла ошибочка в расчетах и приказано нам собрать дополнительной разверстки два миллиона пудиков».
— Здорово.
— А?.. Что делают с мужиком?.. Они там, в центрах, политику разводят, а мы отдувайся. Мужик любит крепкое слово. Раз возьми — даст, а другой раз он тебе вот чего покажет… У него загодя рассчитано, сколько в разверстку сунуть, сколько на семена, сколько на пропей, на прокорм… А тут нате, пожалуйте, здорово живешь, вышла у нас ошибка в расчетах…
Передохнув, Капустин отфыркнулся, как уставшая лошадь.
— Или чагринский райпродкомиссар, в гроб его мать, навалил под открытым небом девяносто тысяч пудов сена, перемешанного со снегом. Ну, не дурак ли?.. Выпади теплый денек, и все оно завтра же сгорит, задохнется… В Мокшановке еще того чище: насобирали битой птицы, целый амбар, она у них и раскисла, всю волость протушили, срам… Вот, Пашка, какими картинами засоряется русло, по которому должно проходить быстрое течение советской власти… «Дай людей» — и людей дали, а мы чего с ними сделали? Ты приказ-то о мобилизации читал?
— Какой приказ?.. А что? — спросил Павел, настораживаясь.
— Почитай…
Они остановились под фонарем.
Капустин извлек из портфеля оттиск приказа, и Павел внимательно прочитал отчеркнутые красным карандашом места:
§ 2. Учителя и члены комитетов бедноты, твердо стоящие на платформе советской власти и не замеченные в саботаже, призыву не подлежат.
§ 6. Добровольцы и красногвардейцы годов, не подлежащих призыву, от службы увольняются. А тех, кто пожелают остаться в рядах армии, выделять в маршевые роты и немедленно отправлять на фронт.
§ 9. Призыву подлежат все проходившие в старой армии учебные команды, офицеры всех чинов, а также лица вышеупомянутых годов, которые почему-либо не несли военной службы до революции.
— Это же чистейшая контрреволюция! — воскликнул Павел.
— И я то же говорю. Кто уклонялся от военной службы до революции? Торгаши, купцы и всякие калеки… На какой кляп они нужны нам… А красногвардейцы, фронтовики, учителя, комбедчики — наиболее сознательные элементы — от армии отшиты. Ловко?.. Кто же по этому приказу в город явился? С одной стороны, темная и необстрелянная крестьянская молодежь, с другой — ефрейторы, фельдфебеля, офицеры, кулацкие сынки… — И мы им сами, своими руками выдали оружие?
— Роздали около трех тысяч винтовок, они уволокли их с собой и теперь из нашего оружия будут стрелять в нас.
— Чьих это рук дело? Враг или дурак?
— И тот и другой… Приказ мы поручили сочинить Чуркину, а он, балда, поехал за военными советами к Глубоковскому, тот ему и насоветовал…
Подавленный Павел молчал… Думы дробились, как быстрая вода на камнях… Морозные просторы, снежные зыби, синяя кайма лесов по белому полю, обозы с хлебом и дровами, ссыпки в хлебной пыли, мужичьи крутые шутки, бредущие по волчьему следу дезертиры, всесильные продкомиссары, выколачивающие разверстку и морозящие картошку тысячами пудов, редкие островки партийных ячеек…
— До сего часа, — заговорил Павел, — за недосугом, а вернее, по ротозейству, я не удосужился прочитать текст приказа… А печатал его Курочкин, есть у нас в типографии меньшевичек такой, не предупредил, собака… Впрочем, нечего на других сваливать, мобилизацию провалили мы сами… Во всем виноваты сами… Где были наши головы?
— Пускай теперь Чуркин поедет, соберет дезертиров, пускай понюхает, чем там пахнет…
— Не о том разговор, Иван Павлович. Кто этот начальник гарнизона?.. Глубоковский, Глубоковский, только о нем и слышу.
— Офицер какой-то… Наказывал я Мартынову — проверь. Он проверил и говорит: «Ничего страшного, служит в Красной армии второй год».