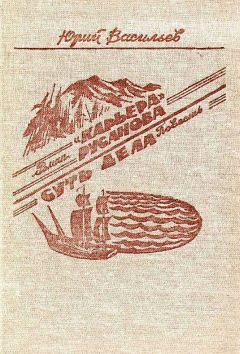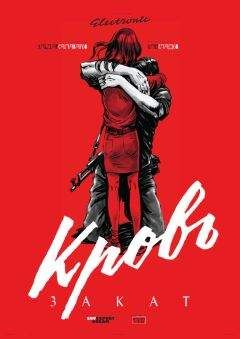«Что-то слишком часто он говорит о мужестве. Не потому ли, что часто повторяемые слова могут стать действием? — думал Геннадий. — Не знаю. Похоже, что все верно. Он действительно искренне верит в то, что делает, считает это своим долгом. Но почему он так спокоен? Неужели и вправду такое мужество?»
Уезжал доцент Плахов.
Длинный, как жердь, сутулый, в обтрепанных брюках и дорогом ратиновом пальто, он стоял на перроне под дождем и вертел в руках зонт, но не раскрывал его, должно быть, потому, что рядом стояли и мокли его ученики, у которых зонтов не было.
— Пора, — сказал проводник.
— Ну что ж, друзья… Идите. Идите…
— Одну минуту, Алексей Алексеевич! Ребята, давайте ближе. — Геннадий протиснулся сквозь кольцо студентов и достал из-за пазухи бутылку шампанского и стакан. — Еле успел… Посошок, Алексей Алексеевич. И пусть все будет в самом лучшем виде!
Плахов взял стакан.
— Спасибо. По всем правилам я должен был бы смахнуть слезу и сказать, что тронут до глубины души. Но я скажу другое… Тридцать два года я читал вам лекции, принимал у вас экзамены, выгонял из аудитории… Ругался с вами и любил вас. Тридцать два года я был молод и счастлив, потому что каждый день вы давали мне новые силы. И за это — спасибо вам! И тем, кто сейчас, может быть, так же как я, стоят на подножке вагона, и вам… Всем, кого я учил.
Он выпил шампанское, передал стакан Геннадию.
— И еще… Эти минуты мне дороги. Дай бог, чтобы каждого из вас провожали так же.
Плахов уехал.
На другой день Геннадия вызвали в деканат. Вызывали многих, но Геннадия особо, потому что именно Русанов предложил проводить доцента Плахова.
В деканате было трое — сам декан, секретарь факультетского бюро комсомола и старший преподаватель кафедры литературы Гарбузов.
— Странный ты человек, — сказал комсомольский секретарь. — Душок у тебя какой-то. Ты, помнится, защищал безыдейные стихи.
Геннадий не выспался, голова у него шла кругом, а этот дурачок, как назло, вертит в руках линейку, от нее в глазах рябит… Что им от меня надо?
— Вы должны были знать, Русанов, что доцент Плахов не просто вышел на пенсию, — сказал декан. — Он вынужден был покинуть стены нашего университета как человек, которому мы не могли больше доверять воспитание молодежи.
— Откуда я должен был это знать?
— Ну, хотя бы из того, что мы, его коллеги, воздержались от проводов. Вы же знаете, что обычно выход на пенсию у нас обставляется довольно торжественно. И потом — чего проще? Вы могли бы прийти и посоветоваться. А так ваш поступок выглядит не слишком благовидно. Это политический демарш, если хотите.
— Какой там демарш, — устало сказал Геннадий. — Просто проводили хорошего человека. Я как-то, знаете, не привык советоваться, провожать мне своих друзей или не провожать.
Гарбузов, старший преподаватель кафедры литературы, криво усмехнулся:
— Несколько сомнительная дружба, Русанов. Мы знаем, что вы и ваши товарищи часто бывали у Плахова дома, и он читал вам… вот только не знаю что. Возможно, именно то, что не смог бы прочитать в стенах университета? Он возил вас на выставки, за свой, разумеется, счет, но он же возил вас и на бега. Не слишком интеллектуальное занятие, кажется?.. Авторитет, Русанов, — и вы это должны помнить — завоевывается не чаепитиями со студентами, а требовательностью, принципиальностью и знаниями. В этом я абсолютно убежден.
— И я убежден, — сказал Геннадий, — Между прочим, вам бы тоже не мешало изредка ходить на выставки и читать книги, потому что неудобно как-то получается: ведете основной, можно сказать, предмет, а говорите иногда такое, что слушать стыдно… Вам ничего не стоит перепутать Синклера Льюиса с Эптоном Синклером или заявить, что не читали Кустодиева, хотя каждый десятиклассник знает, что Кустодиев — это художник. Третьего дня вы на лекции заметили, что Герберт Уэллс в своей приключенческой повести «Машина времени» наивно пытался решить вопросы пространства и времени. Во-первых, он и не думал решать эти вопросы, а во-вторых, назвать приключенческой повестью сложный философский роман — это, знаете ли, уметь надо… Кроме того…
— Русанов! — удивленно сказал декан. — Вы соображаете, что говорите? Я попрошу вас замолчать!
— Нет, подождите! Не я начал этот разговор, но, рано или поздно, он все равно бы состоялся! — Геннадия охватила веселая злость. От ленивого равнодушия не осталось и следа.
Словно расплачиваясь за многие дни безразличия, он продолжал: — Вы говорите о принципиальности? Поговорим… Неделю назад, когда студент Сорокин выступил на профкоме с критикой, что вы ему сказали? Вы сказали: как неосторожно, Сорокин, ведь еще не известно, дадут вам общежитие или нет, а теперь, скорее всего, не дадут… Очень удобная принципиальность! В прошлом году вы подсаживали Плахова в автобус, а сегодня говорите о нем гадости! Да, он действительно возил нас на скачки, однако он рассказывал нам не только о тотализаторе, но и читал «Холстомера»!.. Вы говорите о дешевом авторитете, а сами не смогли приобрести даже такого, плохонького…
«Сейчас будет концерт!» — подумал он все с той же веселой злостью, но Гарбузов спокойно сказал:
— Все это очень глупо и по-мальчишески зло… А по сути… — Он обернулся к декану: — Вы же понимаете, что меня не могут оскорбить эти слова, продиктованные… я даже не знаю чем… И все-таки в дальнейшем я не смогу преподавать Русанову, если он не извинится и не признает, что поведение его не совместимо со званием советского студента.
— Я удивлен вашим поведением, Русанов, — сказал секретарь бюро.
— Но разве я в чем-нибудь не прав?
— С каких это пор вы решили, что можете давать оценку преподавателям? — Декан повысил голос. — Может быть, мы проведем опрос, устроим голосование? Ваше субъективное мнение… Впрочем, я не вижу необходимости разговаривать с вами дальше, Русанов.
— Мне можно идти? — спокойно спросил Геннадий.
— Вам больше нечего сказать?
— Больше нечего.
— Что ж, идите.
…А на улице была суббота, крутились огненные елки, падал новогодний снег из аккуратно изготовленных снежинок величиной с бабочку: возле телеграфа жевал свою бороду дед-мороз, похожий на подвыпившего дворника, а напротив, у дверей дамской парикмахерской, хлопала глазами Снегурочка.
Геннадий поднялся к площади Пушкина и сел на заснеженную скамейку. Думать о случившемся не хотелось, потому что надо было думать не о том, что произошло полчаса назад в кабинете декана, а совсем о другом… О том, что произошло раньше. Чем и кому не угодил Плахов?.. Геннадий вспомнил, как однажды он напрямик спросил у него — кем же, в конце концов, был Шамиль? Народным героем или ставленником англо-французского империализма? Плахов покрутил головой и сказал, что не знает, потому что история должна еще отстояться… И вообще, добавил он, многое должно отстояться. Дерьмо уплывет, а все ценное выпадет в осадок…
Сейчас он пойдет домой и все расскажет Званцеву, — по привычке решил Геннадий и вдруг остановился. А зачем? Что он ему расскажет? В деталях разговор в деканате? Или расскажет о том, как Плахов стоял под дождем на перроне и не хотел открывать зонт? Что ему Плахов? Плахов еще не сумел сообразить, что наука революционна, а революция — это поворот на сто восемьдесят градусов…
«А, да черт с ним! — неожиданно подумалось ему. — Перемелется как-нибудь…» Он пошел в ресторан «Якорь», забился в угол и заказал вина. Выпивал он теперь довольно часто, но вино не делало его развязным или веселым, он держался как обычно, я лишь внутренне чувствовал себя уверенней и много проще. Это состояние ему нравилось. Стороной иногда проходили мысли, что вот так люди начинают пить всерьез, становятся алкоголиками, но он старался не слышать их, говорил себе, что в любую минуту может отставить стакан. Его ведь не тянет. А то, что по утрам у него иногда болела голова, дрожали руки и он стал раздражительным, чего никогда раньше не было, он объяснял тем, что переутомился. Пора всерьез отдохнуть…
Официант принес вино и закуску. Геннадий выпил, ткнул вилкой в салат, огляделся вокруг, и ему стало противно в этом прокуренном зале. Положил на стол деньги и вышел. Домой? Можно домой… А весь этот сегодняшний скандал не стоит выеденного яйца. Извиняться он не будет. Выгонят? Возможно. Зато получил удовольствие. Сказал этому плюгавому тупице, кто он есть на самом деле… Как это Павел говорил? «Дураков бы, Гена, перевешать…» Может быть, все, что ни делается, все к лучшему? Выгонят его, и станет он шофером, уедет куда-нибудь в Сибирь, к чертям на кулички, будет работать руками, а не тары-бары на иностранных языках разводить…