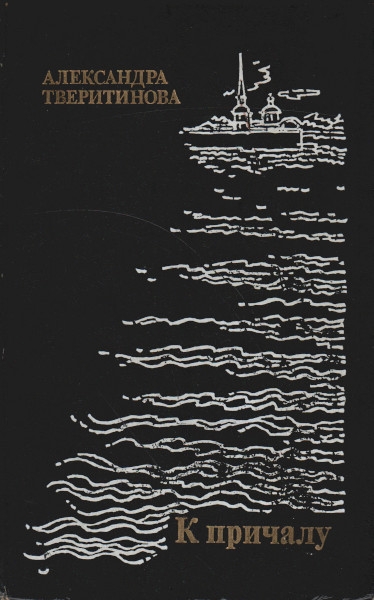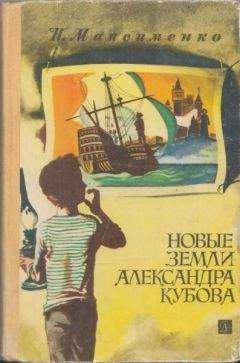стол полотенце, обняла ее за плечи и крепко-крепко стиснула.
— А ну тебя...
— Тася, я тебе верну, честное слово, с первой же получки. Я буду искать работу по объявлениям. После экзаменов. Наверное, найду, да, Тася?
— Ты лучше скажи, как у тебя с химией?
— А никак.
— Что же?
— Ничего.
— Что — ничего? Да говори ты, ради бога, толком.
— Ну, идет понемножку.
Тася смотрела на меня.
— Ну что ты на меня так смотришь?
Тася покачала головой.
— Бросай конверты, Марина. Подгони химию. У меня денег на двоих хватит.
— Нет, не надо, Тася. Я, конечно, брошу. Мне немножко еще — и всё. Вот эти сделаю. Потом еще один раз — и всё.
Я натягивала свитер и глядела на синюю стопку конвертов, разваленную брошенным полотенцем.
— Смотри, Марина, чтоб плохо не кончилось.
— Самое противное на свете, Тася, это химия. Если б не микробиология, честное слово...
— Надо было тебе на другой факультет.
— Факультет ни при чем.
Я отнесла за перегородку полотенце, посмотрелась в зеркало над раковиной, пригладила волосы. Потом достала из портфеля ручку. Села, разложила конверты лесенкой.
— Тася, просто я неспособная. Учатся же Рене, Жозе... Записывают за профессором, все понимают, все им ясно. А Жано, так тот и в Федеративном союзе верховодит. И в газете факультетской — Жано, и листовки — Жано, и всюду — Жано, и еще журналы и книжки читать успевает. И ко всему еще русский язык изучает тоже, говорит, надо. Тупая я, Тася, вот и всё.
— Не выдумывай. Факультет Жано — это тебе не твой, не естественный. Наш, юридический, считается самым легким, если хочешь знать.
— Тася, а что это от бабушки письма нет?
— Запропало где-нибудь. Придет другое...
Тася листала книгу.
— Маринка, у тебя не бывает...
И умолкла.
— Что?
— Как в Россию хочется, если б ты знала...
— Да? А мне нет. Даже никогда и не думала.
— Ну да? Неужели не хочется?
— Нет. Мне нравится в Париже.
— Жано?.. — Тася прищурилась.
— Ни капельки. Ты думаешь, у нас любовь? Честное слово, нет. Просто я люблю Париж. Париж я люблю — можешь ты это понять?
Тася повела плечом. Отвернулась к окну. Мне почему-то стало не по себе.
— Тася, это плохо, да? — сказала я.
— Мне так очень.
Она глядела в окно, о чем-то думая.
Мы умолкли.
— Тася, что будет, если я провалю химию, а?
— Катастрофа. Ты лучше кончай со своими конвертами и приступай к занятиям по-серьезному, слышишь! — Она захлопнула книжку.
— Не уходи.
Мне стало вдруг страшно, и я не могла оставаться одна.
— Хорошо. Посижу немного.
Она стряхнула с ноги туфлю, подтянула на кровать ногу и уткнулась подбородком в коленку.
— Тася, помнишь нашу беседку? Сколько слов хороших там оставлено, Тася...
— Маринка, а как сбежали с математики помнишь?
— И в ограде греческой церкви с мальчишками встретились...
Долго продолжалось наше «а помнишь...». Потом Тася замолчала, притихла, медленно листала книгу. Спрыгнула с кровати.
— Хочу в Россию, Маринка. Поеду! Вот посмотришь, поеду...
Тася ушла, а я еще долго не могла начать работу. Я думала о бабушке, о моем далеком родном городе.
* * *
Старая греческая церковь, в ограду которой мы бегали играть, повисла над самым лиманом. По склону, почти до самой воды, спускалось заброшенное кладбище. Осевшие в землю кресты клонились в разные стороны. Там, где когда-то были погребены люди, земля поросла высокой травой, а надписей на крестах давно не было.
К стенам церкви лепились замшелые темно-зеленые плиты, под которыми лежали древние епископы. С обрыва над лиманом был виден противоположный берег. Мы, ребятишки, приходили сюда, шумели и спорили и всматривались в подернутую молочно-сиреневой дымкой «ту сторону». В ясные солнечные дни мы различали на той стороне лимана легкие очертания тесно сгрудившихся домиков. Домики казались игрушечными. К вечеру берег темнел, становился голубым, синим, лиловым. Там была Россия...
Румыны пришли в наш город на второй год после революции, и мы были отрезаны от России, а город с его древней крепостью, бережно хранившей память о ссыльном Пушкине, с памятником Скобелеву у притихшей теперь пристани, оставался прежним. И люди в нем жили русские.
Моя бабушка преподавала французский язык в государственной русской гимназии. И когда гимназия превратилась в государственную румынскую гимназию, бабушка первой покинула ее. И меня взяла: «Не дам калечить ребенка!» Потом ушли и другие преподаватели. Тогда многие родители стали хлопотать о разрешении открыть частную русскую гимназию. Это удалось. В первый год моя бабушка и другие преподаватели работали бесплатно, — учеников было еще мало и не хватало денег на содержание штата преподавателей. Бабушка перебивалась частными уроками, и нам было трудно, а помощи ждать было не от кого. Дедушка умер, и мама умерла, едва я появилась на свет. Единственный бабушкин сын — мой отец — умер вскоре после мамы. Так мы с бабушкой и остались одни на целом свете.
И каждый раз, думая о бабушке — ведь она там, в Румынии, одна и ей трудно и одиноко и она тоскует обо мне, — я плачу.
После окончания гимназии нас разметало по свету. Мальчики стремились в Россию, в Красную Армию. Они уходили по льду, через лиман. По ним стреляли, и всё-таки они шли, добирались до того берега...
Мы с Тасей приехали в Париж, когда нам было неполных шестнадцать. Сначала испугал бешеный парижский ритм жизни. В первые дни меня тянуло домой, к бабушке. Маленький наш городок, на тихом берегу Черноморского лимана, белый и тихий, казался мне полным сказочной прелести.
Беспорядочно разбросанный вдоль берега, с узкими, обсаженными акацией тротуарами и торцовыми мостовыми; с главной Михайловской улицей, сонной днем и оживающей к вечеру, когда загораются огни в кинематографе Скляренко и ярко освещается единственная витрина в парикмахерской. Летний ветер приносит с лимана вечернюю прохладу и солоноватый запах моря, и на бульваре, где днем под палящим солнцем носятся белоголовые