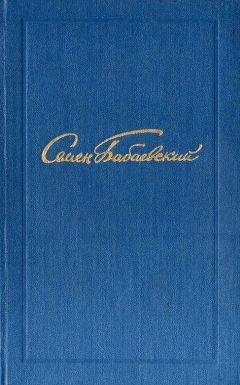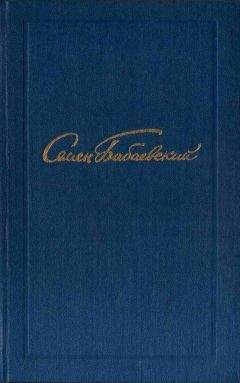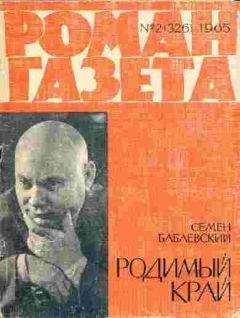Однажды вечером, когда за станицей погасла заря, Зина и Антон стояли на круче, и им уже не было смешно, в глазах — грусть. Тут, на высоком берегу, знакомом и привычном, они вдруг поняли, что уже стали взрослыми и что к ним пришло то, чего они раньше не ждали и о чем раньше не думали, — разлука. Школа осталась позади, а вместе с нею их юная, беспечная жизнь. Впереди рисовалось что-то незнакомое, неведомое, и оно пугало.
«Как же мы теперь, Зина?»
«Разве я знаю, как. Ты едешь в Москву поступать на филологический. А что я? Ничего еще не знаю…»
Внизу, в темноте, бушевала Кубань в летнем разливе.
«Что значит «ничего еще не знаю»? Поедем вместе…»
«Легко сказать — вместе. Хорошо нам было вместе здесь, на этом берегу. Ты же знаешь, как трудно поступить в институт, да еще с моими отметками. Тебе хорошо, ты отличник. Да и вообще парням поступать легче…»
«Я помогу. У нас еще есть время для подготовки».
«Нет, Антон, поезжай в Москву один. А я попытаю счастья в Степновске. Галя Онищенко ездила на разведку в степновский сельхозинститут. Говорят, что там почти нет конкурса».
«Какую же специальность хочешь получить?
«Какую-нибудь. Может, стану садоводом. Как по-твоему, хорошо быть садоводом? Всегда в саду. Красиво! Особенно весной, когда деревья в цвету».
«Свою специальность надо любить».
«Я ее полюблю…»
«А меня разлюбишь?»
«Да ты что, Антон?»
«Писать будешь?
«Каждый день! А ты?»
«Зачем, Зина, спрашиваешь?»
Первые месяцы письма из Степновска в Москву и обратно не шли, а летели, и одно вслед за другим, Однако через год их уже привозили поезда, да и то все реже и реже. На третий год их и вовсе не стало. Два раза Антон приезжал на летние каникулы и оба раза но мог повидаться с Зиной — она находилась на практике в каком-то совхозе. Потом письма Антона возвращались нераспечатанными. И однажды пришло письмо от Зины, не письмо, а короткая записка. «Моя жизнь круто изменилась. Как и почему? Сказать не могу. Об одном прошу: не сердись на меня и не пиши мне…»
Весной Антон приехал на похороны матери и в Усть-Калитвинской узнал, что Зина в прошлом году зимой вышла замуж за доцента Осянина. Антон хотел поехать в Степновск, чтобы повидать Зину, и ему стоило немалых усилий отказаться от этой затеи. После учебы он стал работать секретарем Усть-Калитвинского райкома комсомола, а муж Зины в это время был назначен директором совхоза в шести километрах от Усть-Калитвинской. Теперь Антон уже не хотел встречаться с Зиной, ибо к тому времени он настолько свыкся с мыслью о ее замужестве, что желание видеть ее у него не возникало. Однако после разговора с Калашником он снова и думал о Зине и видел то ее смеющиеся глаза, то белый бант на голове. «Нет, надо нам повидаться. А что в том плохого? — думал он. — Встретимся, как школьные друзья, и только. Ведь все, что между нами было, теперь, как говорится, быльем поросло. Какая она сейчас? Наверное, это уже не та Зина, какой она была… Да и я уже не тот…»
Он задумался и не заметил, как на землю опустились густые сумерки. Горы растаяли в темноте, река на перекатах стала матовой. Он смотрел на чуть приметные очертания берега, прислушивался к настойчивой работе воды и, как никогда раньше, сознавал, что приехал сюда не ради воспоминаний, а тем более не ради встреч с Зиной. Он решительно поднялся, взмахнул руками, как бы стряхивая с себя усталость, и зашагал в станицу.
В доме, который принадлежал Илье Никифорову, сыну тети Анюты, Щедров занимал большую комнату с застекленной верандой, выходившей в сад. Тот особняк, что пустовал на берегу Кубани, занял многодетный Анатолий Приходько. Илья Никифоров, мужчина невысокий, с клочковатыми гнедыми усами, не хотел сдавать комнату. На уговоры Рогова, принявшего самое деятельное участие в устройстве с жильем Щедрова, Илья отвечал одно и то же:
«Неудобно мне держать квартиранта да еще и брать с него деньги».
«А ты не бери», — советовал Рогов.
«Жить под одной крышей с секретарем райкома будет стеснительно, — стоял на своем Илья. — За ним надо ухаживать, пищу готовить. А кто этим станет заниматься?
«Илюша, не противься, пусть поселяется у нас Антон Иванович, — говорила тетя Анюта. — Человек он здешний, нашенский. Я-то его знаю еще с той поры, когда он был в пионерах. Так что мы с ним давние знакомцы».
«Тем более, мамаша, нехорошо, — стоял на своем Илья. — Разве в станице мало жилищ?»
«Пойми, Илья Ильич, у нас безвыходное положение, — доказывал Рогов. — Дом, который предназначался Антону Ивановичу, он сам отдал второму секретарю, человеку семейному. Устроить же Антона Ивановича поприличнее негде. Мы строим жилой дом, но он будет готов только к осени. Что же касается платы, то вопрос это чисто житейский: когда возьмешь, а когда не возьмешь, — не обеднеешь. Относительно продуктов, какие могут потребоваться, подбросит райпотребсоюз — я уже дал указание. Мебель, какой недостает, привезет Самочерный, об этом ему дано указание. Так что, Илья Ильич, прошу тебя — соглашайся».
Никифоров хмурил брови и покусывал кончик колючего уса.
На помощь Рогову пришла и дочь Ильи Уленька.
«Ну, хватит вам торговаться! — сказала она, покосившись на отца. — Примем, папа, квартиранта, и примем, как родного. Жить-то ему негде, а у нас какой домина. А кто сготовит пищу и кто подаст? Не вопрос! Эту заботу возьму на себя. Дежурства у меня в больнице ночью, а днем я дома. Да и бабушка подсобит. Управимся!»
«Молодец, Уленька! — похвалила тетя Анюта. — Правильно рассудила моя внучка!»
«Ладно, я согласен», — сказал Илья.
«Вот это уже другой разговор!» — воскликнул Рогов.
Своим жильем Щедров был доволен. Комната и большая, и светлая, и теплая. Чего еще нужно? Платяной шкаф, железная широкая кровать с матрацем и двумя подушками. Над кроватью по стене раскинут коврик: на нем изображены озерцо и пасущиеся олени. Почему Никифоровы, жители южной станицы, выбрали именно этот северный пейзаж с оленями — сказать трудно. Полки для книг, канцелярский стол с чернильным прибором, а также диван и три стула по указанию Рогова доставил сюда Самочерный.
Густой, ярко-рыжий, напомаженный каким-то маслом и зализанный назад чуб начальника райкомхоза Самсона Ефимовича Самочерного и его густые огненно-рыжие брови невольно вызывали улыбку. Самочерный — и вдруг ярко-рыжий! Он был полнолиц, носил просторный пиджак и широкие брюки. Почему-то ботинки у него были всегда стоптаны наружу, отчего ноги его казались несколько кривыми, как у завзятого конника, хотя всем было известно, что Самочерный не только никогда не садился на коня, но даже не притрагивался к седлу. Когда он привез на грузовике мебель и вместе с рабочими начал стаскивать ее, то показался Щедрову расторопным малым. Самочерный не знал таких слов, как «нет», «нельзя», «невозможно», и любил отвечать лишь: «Так точно!», «Все возможно!»
«Самсон Ефимович, вы всех снабжаете коммунхозовской мебелью?» — спросил Щедров.
«Никак нет! Исключительно по указанию!»
«Кто же дает такие указания?»
«Евгений Николаевич Рогов!»
«Значит, он дал указание привезти сюда мебель?»
«Так точно! Вам и товарищу Приходько! Во временное пользование».
«Но ведь мебель портится, значит, надобно брать плату, так сказать, за амортизацию».
«Об этом, Антон Иванович, не тревожьтесь. Действую согласно указанию. Будет указание — возьмем плату, не будет — обойдемся».
«Так вот что, Самсон Ефимович, выполните еще одно указание».
«Какое? Я готов!»
«Возьмите плату за диван и стол».
«Антон Иванович, сие исполнить невозможно».
«Причина?»
«Будет нарушение ранее данного мне указания».
«И все же придется нарушить…»
«Тогда позвольте, Антон Иванович, исполнить это чуть позже. Через день-два. А сию минуту невозможно…»
Щедров прошел через веранду в комнату. Радовался, что его жилье находилось далеко от главной улицы, сюда не доносился грохот грузовиков. Выходившие в сад окна на ночь закрывались ставнями с железными засовами. По тому, как хлопали ставни и гремели засовы, как дробно стучали за стеной каблуки, Щедров знал, что окна закрывала Уленька; что вот она скоро переступит порог и, сдерживая улыбку и как-то исподлобья поглядывая на Щедрова, скажет:
«Извините меня, Антон Иванович, я закреплю засовы изнутри».
«Я бы мог это сделать и сам».
«Лучше сделаю я…»
«Отчего же лучше?»
«А оттого, что я это умею делать, а вы не умеете».
Первые дни Ульяша избегала встреч со Щедровым. Коли случайно она попадалась ему на глаза, то краснела и уходила, и всякий раз, видя ее, он говорил сам себе: «Какая славная девушка!» Потом она осмелела и стала чаще заходить к нему в комнату. Приносила то ужин, то молоко, то горячую воду для бритья. По вечерам, когда Щедров задерживался, она стелила ему постель, напевая какую-то песенку. Вот и сегодня постель была разобрана и на тумбочке под абажуром уже горела лампа. Щедров не успел снять пиджак, как вошла Ульяша — принесла стакан ряженки и сухари в тарелке, и он, встречая ее улыбкой, невольно подумал: «Не то что славная, а какая-то она необыкновенная». Ульяша поставила стакан на тумбочку, рядом с лампой.