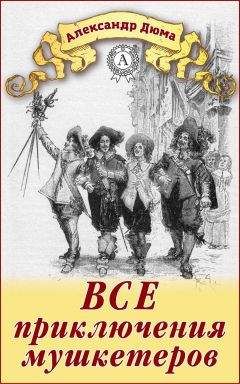— Не по-партийному рассуждаешь, брат! — донесся до слуха голос пожилого инструктора. — Христосика разыгрываешь!
Младший пожал плечами, и на этом у них разговор кончился. Оба подобрали плащи, крепче зажали портфели, видимо готовясь «сойти». Но тут, грозя расплющить вагон, поезд начал круто и резко тормозить и наконец стал, грохнув всеми буферами.
— Разъезд! — произнес кто-то неуверенно.
— Зря спорили, Афанасий Григорьевич, — заметил младший инструктор и осторожно, помогая рукой своей раненой ноге, первым спустился на неподвижную землю. За ним, так же неторопливо и осмотрительно, сошел Афанасий Григорьевич. И едва они скрылись из виду, словно шквал налетел на наш товарняк, в вагон хлестнуло ветром, пахнуло жарким дыхом двух паровозов, и мимо нас замелькали платформы воинского эшелона, груженные танками, артиллерией, грузовыми машинами, снова танками и «катюшами», и снова пушками в каплях смазочного масла. Затем вдруг посмерклось, и частые, как из пулемета, просверки стали отсчитывать пробегающие мимо нас вагоны с пехотой. Последним проскочил, вытянув за собой шлейф ясного утреннего света, маленький вагончик с часовым на задней площадке.
Замерло вдали дыхание тяжелого состава, а мы все не трогались.
— Видать, еще эшелоны пойдут, — высказал предположение одноглазый парень.
Но вот из всех вагонов товарняка посыпали военнопленные в зелено-седых, как плесень, и навозных шинелях, на рысях пересекли железнодорожный путь и затемнели кочками на бугре за полотном.
Вновь намчавшийся воинский эшелон отрезал нас от этого непривлекательного зрелища. И снова мелькали платформы с орудиями, танками, «катюшами»; могучая техника, победно сработавшая на решающем участке второй мировой войны, мчалась вдогон за отступающим противником. Восторженно, нежно, гордо и радостно провожали мы взглядом громадные орудия, танки с иссеченной броней, таинственные «катюши», такие грозные в бою, а сейчас зачехленные, похожие на матрацы, теплушки с не видной нам пехотой, и слезы навертывались на глаза, и хотелось кричать, петь от счастья нашей молодой победы.
А там, под вихрем летящего эшелона, на корточках, спустив штаны, по-солдатски неторопливо опрастывались остатки великой армии…
Наше неспешное, но все же неустанное, плавное продвижение вперед кончилось. Путь был одноколейный, и мы должны были то и дело уступать дорогу мчащимся на запад эшелонам с техникой и войсками. Мы двигались от разъезда к разъезду, и на каждом подолгу замирали. Случалось, мы сутками томились на станциях, где были устроены трофейные склады: там стояли колонны пятитонных «бюссингов» и приземистых мышиного цвета «мерседесов», высились штабеля немецких мин, ящиков со снарядами и патронами, целые горы седел из эрзац-кожи. Лошадей немцы съели еще в начале окружения и собирались было приняться за седла, когда советские войска избавили их от забот о хлебе насущном. Трофейная техника грузилась на платформы и уходила на запад, и ей мы тоже уступали дорогу. На этих рельсах, раскаленных от безостановочного движения тяжелых поездов, наш состав был самым неважным и ненужным. Но мы, пассажиры прицепного вагона, не могли досадовать на бесконечные задержки: ведь мы уступали дорогу нашим будущим победам.
А потом нас стали теснить и другие поезда. В Сталинград шли платформы с углем, машинами, стройматериалам цистерны с нефтью, холодильники с продуктами. И мы словно путались под колесами этих работающих на войну и восстановление эшелонов.
Непредвиденно затянувшееся путешествие вызвало к жизни особый вагонный быт. Постепенно у нас выделилась прочная, постоянная группа пассажиров, связавшая себя с этим поездом до конца пути. Где наступит этот конец, мы еще не знали, вагон должны были отцепить или в Борисоглебске, или в Мичуринске. Как-то само собой получилось, что старожилы заняли левую от дверей половину вагона, а случайные попутчики располагались в правой. Левая половина могла считаться плацкартной: там имелись узкие нары; те же, кому недостало места на нарах, соорудили себе на полу подобие ложа из оказавшегося в вагоне сена и собственных вещей. Появились даже занавесочки, отделявшие одно «купе» от другого. Занавески вывешивались только на ночь, днем мы жили по-семейному, с общим котлом. Это тоже сложилось как-то само собой. Дорожные запасы у всех были крайне скудные, никто не рассчитывал на столь долгий путь, да едва ли и можно было запастись большим в разрушенном, живущем на жестком пайке Сталинграде. Если у меня оставалось около ведра осточертевших мне миног, то не было ни кусочка хлеба, а у тети Паши, напротив, кроме калабашки черного хлеба да серых лепешек, не было никакой другой еды. Так же примерно обстояло дело и у других пассажиров: один был богат луком, другой — твердой как камень черной колбасой, третий — еще какой-нибудь незатейливой снедью. Объединив наши запасы, мы пользовались довольно разнообразным и вкусным столом.
Однако на четвертый или пятый день запасы пришли к концу, и тогда нас выручил небольшой базарчик на задах разбомбленной станции Филоново, где мы простояли двое суток. Базарчик был такой скудный, что щемило сердце: один стакан топленого молока; два крошечных, похожих на голубиные, яичка; две или три серые лепешки, тяжелые, как спортивные диски; луковица, соленый огурец да горстка подсолнухов. Деньги на этом базарчике хождения не имели. Тут шла мена: за стакан молока требовали две пары женских чулок или смену трикотажного белья, за луковицу — пару варежек, за яички — отрез материи или шерстяной платок.
Как ни бедны были мои спутники, они все же везли с собой кое-какое барахлишко; я же владел лишь тем, что было на мне: старой кавалерийской шинелью — эту шинель мне выдали в госпитале при демобилизации, — летней гимнастеркой и шароварами, кирзовыми сапогами и бельем. Излишеством было лишь одно кашне, сделавшее меня обладателем стакана топленого молока.
Приобретенные продукты мы также объединили и уничтожили в один присест. На другой день мы вновь навестили базарчик, приметно выросший и потому, видимо, сбавивший цены. Нежданно нашлось и у меня что поменять. Мать дала мне в дорогу катушку ниток и две иголки, в расчете, что одну из них я потеряю. И вот оказалось, что на этом базарчике иголки и нитки ценились чуть ли не превыше всего. Видимо, немало дыр надо было зашить этим людям, если нитки были им нужнее чулок и варежек, а иголки приравнивались к шерстяным носкам.
На этот раз мы были осмотрительнее и часть приобретенной еды сохранили впрок; к тому же неизвестно было, окажется ли базар на следующей крупной станции, да и когда еще доберемся мы до нее. Впрочем, нашего запаса хватило ненадолго, и вскоре мы стали самым ощутительным образом поголадывать. Порой, правда, нам удавалось перехватить на станциях то хлеба, то молока, но с нами ехала молодая беременная женщина, и, по молчаливому уговору, молоко и другие питательные продукты мы уступали ей. Она была очень совестлива, и нам приходилось обманом подсовывать ей лишнюю кружку молока или кусочек масла. Она много спала, и мы всякий раз говорили, что не хотели ее будить и позавтракали без нее.
Вероятно, она догадалась об обмане, и однажды я увидел ее на базаре: она продавала шелковое дамское трико с кружавчиками. До этого она на базар не ходила, и меновые операции за нее и за себя производила ее подруга, черненькая востренькая девушка, похожая на галчонка. Продавщица, которой наша спутница предложила трусики, была рослая, обхудавшая, но широкая в бедрах тетка. Она со смехом взяла трусики, казавшиеся кукольными в ее больших темных руках, распялила их, показала своим соседкам и, видимо, отпустила какую-то шутку, потому что те громко рассмеялись. Прозрачно-восковистое, со слабым румянцем на впалых щеках лицо нашей спутницы страдальчески искривилось. Она чуть откинула назад верхнюю часть туловища, свела худенькие лопатки и левой рукой стала что-то нашаривать у себя за спиной. Ее фигура сохраняла обычно совершенную гибкость и стройность, только маленький острый животик позволял догадываться о ее положении. Но сейчас, от этого неудобного движения, ее живот опустился, выпятился, и было ясно, что в скором времени она станет матерью. Вынув руку из-за спины, она погрузила ее за пазуху жестом человека, достающего деньги из внутреннего кармана. Резкий, короткий рывок — и она протянула хозяйке голубой лифчик. Та взяла лифчик и, верно, ощутив на нем тепло молодой груди, которой вскоре предстояло стать грудью матери, вдруг стала серьезной. Осторожно держа в руке эти тонкие и жалкие вещички, она другой рукой обернула в газету ядовито-красный кусок солонины и отдала нашей спутнице и покупку, и плату за нее. Та взяла солонину, но от вещей отказалась. Они заспорили. Продавщица разъярилась, она натягивала трусики на свой здоровенный кулак, прикладывала их к своей могучей фигуре, задирала юбку и показывала свои штаны из чертовой кожи, похожие на рыцарские латы. Кончилось тем, что наша спутница забрала назад трико, а лифчик оставила у продавщицы: все равно он скоро будет ей ни к чему. Солонину же, — пожалуй, единственное, чего ей нельзя было есть, — она внесла в общий котел. И тогда я понял, что побудило ее самолично отправиться на базар…