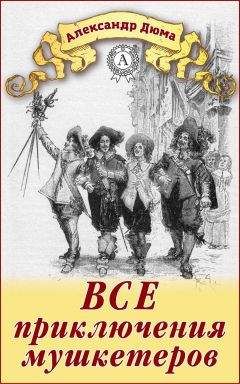Проснувшись уже окончательно, я обнаружил, что в госпиталь идти слишком рано. Чтоб скоротать время, я принялся курить. Но эти ароматные, медом пахнущие самокрутки выкуривались удивительно быстро: видимо, трубочный табак не годится для папирос..
Не зная, чем заполнить томительные часы ожидания, я медленно натянул сапоги, умылся, одел ремни и вновь принялся сворачивать ароматные, на одну затяжку, папиросы.
— Товарищ лейтенант, хотите чаю? — послышался из-за двери мягкий голос жены бригврача.
Я с радостью откликнулся на приглашение. Закутавшись в пушистый шерстяной плед, она полулежала на кровати в своем вчерашнем байковом халатике, голова повязана шелковой косынкой. На круглом столике перед ней стояли термос и чайный прибор. Едва я переступил порог, пес кинулся ко мне, но тут же трусливо отпрыгнул назад и заскулил с тоской и злобой, будто ему разом отдавили все лапы; затем подошел к изголовью кровати и, раздвоив взгляд янтарных глаз, уставился со страхом на меня, с жесткой угрозой — на хозяйку.
— Сразу видно, чей это любимец, — заметил я.
Жена бригврача улыбнулась, кивком указала мне на кресло и подвинула стакан с крепким дымящимся чаем. Теперь, при дневном свете, я увидел ее несколько иной… Она была и похожа и непохожа на свою, верно довоенную, фотографию. Конечно, тогда она выглядела юнее, но дело не только в этом. В ее нынешнем облике утратилась та бесшабашная, добрая и щедрая легкость, что так привлекала на карточке.
— Вы не в Первом медицинском учились? — спросил я, не зная, как начать разговор.
Глаза ее округлились и заблестели.
— Да! Откуда вы знаете?
— Я не знал этого. Просто я сам когда-то учился там.
— Вы медик?
— Нет, я проучился всего один курс.
— А что вы кончали?
— Я ничего еще не кончил. Учился на историческом, а когда институт эвакуировался, ушел на фронт.
— А вы помните кого-нибудь из Первого медицинского? — живо спросила она.
— Ну, еще бы! Гаврилу Иванова, он читал анатомию, Арцыбышева — физика, Ильина — биолога…
— А практическую анатомию у вас вела Нина Владимировна?
— Нет, Лев Сергеевич.
— О! Кровожадный Лев! Его ужасно все боялись! А Кошелева вы помните? — Лицо ее разрумянилось, стало очень юным и очень похожим на фотографию.
— Конечно! Но у нас лабораторию вел Савич. А как звали того старичка, который ассистировал на лекциях по химии? У него все из рук валилось. Мы называли его опыты добыванием стекла из пробирок.
— У нас тоже так острили! Яков Михайлович он был совсем старенький, а все не хотел уходить на пенсию. Мы устроили ему торжественные проводы, преподнесли цветы, подарки. Он ужасно плакал. А при вас шла борьба Брагина с Гудковым?
— Да! У нас весь институт разделился на две группы — кто за Брагина, кто за Гудкова.
— Это и нам досталось по наследству. Брагин ушел в Тимирязевку, а брагинцы остались. И все-таки он был не прав!
— Почему? — воскликнул я с азартом и тут же рассмеялся. — Не хватает, чтобы мы с вами поссорились из-за Брагина!
Она тоже засмеялась..
— Какое чудное было время! Ах, какое чудное время! — Ее небольшой чистый лоб прорезала сурово-важная морщинка. — Здесь, на фронте, как-то особенно хорошо думается о прошлом…
Она уютно куталась в пушистый шерстяной плед, подбирая его руками вокруг себя; чувствовалось, что ей тепло, надежно и покойно в этой протопленной комнате, в этой большой мягкой кровати, в нежном байковом халатике.
— А вы давно здесь? — спросил я.
— Нет! Мы только в сентябре сдали госэкзамены. И то это ускоренный выпуск. Я приехала сюда с тремя подружками. Мы вместе поступали, вместе зубрили, вместе готовились к экзаменам. Нас хотели оставить при кафедре как отличниц, но мы ни в какую — только на передний край!.. Мы так гордились, когда настояли на своем. И надо же — нас направили на Воронежский фронт, где работал мой муж… — Она бросила короткий взгляд на карточку бригврача. — Подружки мои разъехались по медсанбатам, а меня муж не пустил.
— Как не пустил?
— Видите ли, — она слегка покраснела, — ему до зарезу нужен был ординатор в палату для выздоравливающих… Вы не подумайте, — добавила она поспешно, — он тут совсем по-походному жил, это когда я приехала, он раздобыл откуда-то все эти хорошие вещи, даже собаку завел…
От ее милого, доверчивого, такого домашнего облика повеяло на меня вдруг чем-то неприятным и чуждым. Мне вспомнилась та, другая женщина, в темном ночном поезде. Она до нитки обобрана войной, она лишилась мужа, родителей, крова. И вместе с тем не потеряла ничего, быть может даже приобрела ту удивительную щедрую доброту, что способна приютить и согреть всякого, кому одиноко и плохо, что сохранила ее легкой, цельной и прозрачной, как самый чистый родник. Она доживет до того великого праздника, когда встретятся все разлученные, сбудутся все надежды… А эта, такая же молодая и крепкая, не знала никаких горестей и потерь. Она окружена удобствами, у нее сильный любящий муж, готовый защитить ее от всех бед и напастей, — и все-таки она бедна и грядущий праздник не для нее.
Конечно, я ничего не сказал ей: надо же кому-нибудь работать и в палате для выздоравливающих!
— Вы знаете, — словно издалека донесся до меня голос, — у нас такая трудная палата, ужасно много работы! Ведь мы работаем без выходных дней, и потом — ночные дежурства… Так устаешь…
Голос оборвался. Затем она спросила тихо, серьезно и робко:
— Вам не нравится то, что я говорю?…
— Нет, отчего же…
— Я плохо поступила, да?.. Я должна была уехать с моими девочками?.. — Губы ее дрогнули, смялись, она заплакала, сначала тихо, беззвучно, потом, зарывшись лицом в подушку, бурно, отчаянно, неудержимо.
Я смотрел на ее вздрагивающие плечи, на тонкую, детскую шею, обнажившуюся между воротником халата и подобранными под косынку волосами, и не знал, чем помочь этому внезапно прорвавшемуся горю.
Противно отфыркиваясь и не спуская с меня косящего глаза, пес потянулся к ней длинной мордой. Я замахнулся на него, пес взвизгнул и, струясь гибким телом, отполз прочь, но вдруг, забыв все заботы, стал с щелком и чуфыканьем ловить какую-то нечисть на своей гладкой шкуре.
— Дайте мне воды, — произнесла она тяжелым от слез голосом.
Я налил воды из графина и протянул ей стакан. Она жадно, выстукивая дробь зубами, выпила воду. Затем достала маленький носовой платок, утерла глаза и щеки и смешно, по-детски, высморкалась.
— Я ничего не могла поделать, — сказала она беспомощно. — Муж такой умный, сильный, волевой человек. Он всегда прав, всегда настоит на своем. Он знает столько веских, убеждающих слов. Я давно догадывалась, но только сейчас поняла, совсем поняла, что эти слова ничего не стоят… Он хочет для меня того, чего никогда не хотел для себя. Он прожил очень трудную жизнь, почти мальчиком участвовал в гражданской войне, был под Хасаном, Халхин-Голом, в Финляндии. Он крупный клиницист, из-за него спорили два института, а он все бросил и уехал на фронт… Но он так меня любит, так за меня боится… А мне так нехорошо сейчас, стыдно. Стыдно перед товарищами по институту, перед моими подругами, стыдно перед той, какой я была раньше!..
— Один человек сказал мне недавно: самое страшное — выпустить судьбу из рук, прожить не свою, а чужую жизнь.
— Вот и у меня такое чувство. — Она приподнялась на кровати. — Это не я, это не моя жизнь…
— Вам в самом деле так больно? Или это… пройдет?
Она ничего не ответила, только чуть побледнела.
— Не сердитесь и простите меня, — сказал я вставая. — Мне пора. Желаю вам всего доброго, а главное — настоящего. Сейчас наступление, на передовой нужны врачи…
Что-то блеснуло в ее глазах, и на миг она снова стала очень похожа на свою карточку. Пес крутился около постели, он совсем изошел тоской и злобой. Она выбросила тонкую, обнажившуюся из-под широкого рукава халата руку и не больно, а ласково-пренебрежительно сжала его уши на плоском затылке. Он заскулил и отполз прочь, дрожа.
— Знаете что, — сказала она с какой-то робкой душевностью, — давайте встретимся после войны. Наши в медицинском уговорились собраться в первый субботний вечер после войны…
— На великий праздник? — спросил я, улыбнувшись своим мыслям…
Около половины второго я переступил порог госпиталя.
— Вы, все-таки опоздали? — встретил меня военврач словами, лишенными всякой окраски. — Что же, мне ничего не остается, как отправить вас обратно в часть. Он протянул мне запечатанный конверт. — Теперь от вас зависит, свидимся мы с вами через месяц или нет.
— Надеюсь, что нет.
Я пожал его сильную теплую руку и вышел из кабинета.
Когда я брел к городу, за горизонтом привычно погромыхивало, белесое, нагрузшее снегом небо озарялось слабым румянцем, но гул и отблеск наступления уже не будили во мне прежнего тоскливого чувства.