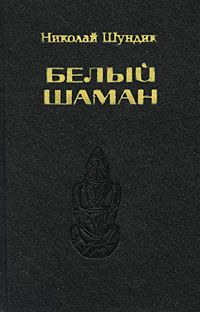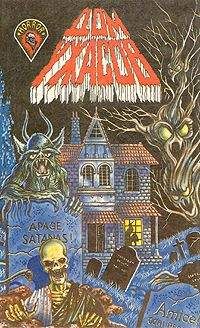Судя по всему, охотники были почтительны к своему председателю. Но вот вошёл Ятчоль, протолкался к Пойгину, закричал:
– Я не поплыву в море на пятой байдаре! Она слишком мала и неустойчива на волнах.
– Садись в третью байдару, на моё место. Я буду на пятой, – спокойно ответил Пойгин.
– Нет, я лучше поплыву на пятой. Третья ещё хуже.
– Это верно. Потому я и выбрал её для себя и для тех, кто не трясётся от страха перед каждой волной.
– А я трясусь? Ты почему позоришь меня?
Охотники попытались урезонить Ятчоля:
– Помолчи, рваная глотка!
– Покричи на свою жену, она привыкла к этому!
– Не мешай председателю!
– Он сделал три новые байдары, а сам уйдёт в море на старой…
– Пусть уходит на новой, кто ему запрещает, – уже потише возразил Ятчоль.
– Совесть ему запрещает.
– Он и на старой тюленей и моржей добывает больше, чем кто-либо другой на новой.
– Он шаман, он прикликает к себе зверя! – опять закричал Ятчоль. – Скоро очочи прогонят его из председателей. Скоро придёт газета из округа со словами проклятия Пойгину…
Эттыкай насторожился. О чём болтает этот крикливый человек? Может, всё-таки говорит правду? Так ли уж и устойчив Пойгин под своей Элькэп-енэр? Почему он молчит? И все охотники тоже молчат…
Молчание действительно было долгим и тяжёлым.
Но вот к Пойгину подошёл Мильхэр – охотник высокого роста, с рябым от оспы лицом, и вдруг схватил Ятчоля за оба уха и с яростью прямо в лицо сказал:
– Если и вправду придут слова проклятия в листке немоговорящих вестей… я оборву твои уши и скормлю собакам.
Охотники рассмеялись. А Пойгин устало улыбнулся и негромко попросил:
– Отпусти его, Мильхэр. И руки в морской воде вымой. Уши Ятчоля, как и язык его, только с ложью и знаются.
И снова насмешки, как снег в пургу, осыпали Ятчоля. Осторожно потирая уши, он ждал момента, чтобы ответить насмешникам. Наконец дождался такого мгновения, закричал, раздувая в натуге шею:
– Откусите свои языки, угодливые людишки! Вы и передо мной по-собачьи вертели бы хвостом, если бы я был председателем. Но я буду, буду ещё вашим очочем! Пусть только придёт газета со словами проклятия Пойгину…
Ятчоль знал, о чём говорил. Месяц назад, когда артель готовилась к первому выходу байдар в море, Пойгин вышел со всеми охотниками Тынупа на берег со своим бубном. Старик Акко нёс в лукошке из моржовой шкуры кусочки нерпичьего мяса, Мильхэр – лопасть от весла, Кайти – глиняный сосуд с жертвенной кровью нерпы. Навстречу людям дул резкий ветер. Море, насколько мог его постигнуть глаз человека, было открыто, нигде даже малейшего намёка на ледяное поле. И это было плохо. Моржи, тюлени чаще всего там, где плавают ледяные поля. Надо было попросить море, его хозяйку, Моржовую матерь, пригнать ледяные поля, которые можно было бы достигнуть на вёслах.
О, как ощутимо сегодня вечное дыхание моря. Волна за волной обрушивается на берег. И Пойгину кажется, что это живые существа спешат к берегу с добрыми вестями от Моржовой матери. Он жадно втягивает в себя такой знакомый ему запах водорослей, облизывает морскую соль на губах и произносит пока мысленно свои говорения в честь моря, говорения, которым через какое-то время суждено будет уйти грохотом его бубна в морскую даль, до той черты, где море становится небом. Уйдёт грохот бубна и в глубь пучины, где находится очаг Моржовой матери. Чайки, гагары, бакланы слетаются к тому месту на морском берегу, где стоят мужчины и женщины, обращённые лицами к морю; кричат птицы, почти крылом касаются Пойгина, словно бы торопя его поскорее вскинуть над головою бубен. О, как глубоко дышит море, как ощутимо его вечное дыхание, как таинственна невидимая жизнь его пучины, как загадочна та черта, где море становится небом. Пойгину в детстве мечталось уйти на байдаре настолько далеко, чтобы он смог пересечь черту, где море становится небом. Ах, как крепко море пахнет морем…
Пойгин поглядывает на Кайти. Несёт Кайти в вытянутых руках глиняный сосуд с жертвенной нерпичьей кровью, шаги её точны и осторожны. Ах, как она верит морю. Сколько раз она выходила на берег, когда он, Пойгин, где-то далеко-далеко одолевал на байдаре волны. Выходила на берег и всё смотрела и смотрела вдаль и шептала, что она верит морю, верит, что с его стороны ничего не приходит злого, а значит, не придёт и печальная весть, что мужа её поглотила пучина. Какие у неё удивительные глаза. Когда Пойгину случалось отчаянно пробиваться сквозь волны, ему казалось, что он видит глаза Кайти, и силы его удесятерялись.
Шипит пена прибоя, оседая на гальке, и Пойгину в этом чудится таинственный шёпот самого моря, доверительный шёпот, словно кто-то невидимый наклонился к его уху. Что в том шёпоте? Скорее всего обещание отозваться добром на жертвоприношения, обещание откликнуться согласием на его просьбу подогнать поскорее льды и вместе с ними моржей и тюленей.
Вот ещё пять раз наклонился кто-то невидимый к уху Пойгина с доверительным шёпотом, с удивительным шёпотом, который слышен даже сквозь грохот прибоя, и он ударит в свой бубен.
Пойгин поднял пятерню левой руки. Один палец загнул, второй, третий. Ещё два раза осталось зашипеть пене прибоя. Ещё один. И вот всё! Сейчас грохот бубна пересилит гром прибоя. Уйдёт грохот бубна далеко-далеко, глубоко-глубоко, и Пойгин всем своим существом растворится в вечном дыхании моря.
И загремел бубен! И, казалось, заспешили вал за валом к берегу волны моря, на призыв заспешили. И стал ещё доверительней шёпот невидимого, который склонился к самому уху Пойгина, словно бы советуя: ударь ещё громче, найди в бубне самый проникновенный голос, пусть он войдёт в самую душу Моржовой матери.
Бросил Акко из моржового лукошка кусочки мяса в море – прими в дар, Моржовая матерь. Швырнул Мильхэр лопасть весла в море – прими в дар, Моржовая матерь. И наконец настала пора самому главному жертвоприношению. Побледнев ликом, Кайти выплеснула из глиняного сосуда жертвенную кровь в море – прими в дар, Моржовая матерь. А бубен гремел, подтверждая всей своей страстью искренность жертвоприношения. И кричали, ликуя, птицы, и входила в каждую кровинку Пойгина сила вечного дыхания моря.
Журавлёв прибыл на летние каникулы из тундры в Тынуп вместе с прикочевавшими на морской берег оленеводами. Постриженный, вымытый, переодетый в европейскую одежду, он чувствовал необычайную лёгкость и радость человека, который имел право на отдых после нелёгкого испытания. Не такой уж и большой посёлок Тынуп казался ему сущей столицей. Позади осталось девять месяцев жизни в тундре. Красная яранга его обрела добрую славу в тундре, а он, Кэтчанро, сумел показать себя в полёте.
Ах, Кэтчанро, Кэтчанро, отчаянный ты человек, и что влечёт тебя порой к самому дьяволу на рога? Писать надо об этом, писать свою душу, а главное – надо бы как можно полнее рассказать об увиденном. Хорошо, что он ведёт дневник.
Журавлёв достал из тумбочки дневник, полистал его, остановился на одной из записей. «Ездил в стойбище шамана Вапыската. Это был вызов на вызов. Шаман боялся, что я уведу от него последних пастухов, погрозил, что его жена встретит меня пулей из винчестера, а он сам – стрелою из лука. Вот я и явился к нему. Не с пустыми руками явился. То, что я захватил с собой, и явилось моим оружием. Сейчас вспоминаю, и хохот меня разбирает…»
Захлопнув дневник, Журавлёв посмотрел на себя в зеркало, не узнавая своё бритое лицо. Вот так, Александр Васильевич, так-то вот, Кэтчанро. Было смешно, но поначалу не слишком…
Встретил Журавлёва чёрный шаман у входа в свою ярангу. Долго смотрел на него, мигая красными веками, наконец спросил:
– Ты знал, чем я грозил тебе, если ты ко мне приедешь?
– Знал. Потому и приехал…
– Может, русские не боятся смерти?
– Я не боюсь твоих угроз.
– Значит, ты приехал ко мне с вызовом?
– Не совсем так. Но если и с вызовом, то не таким, как ты думаешь. Я привёз тебе подарок от Рыжебородого. Здесь, в этой банке, мазь. Она, возможно, излечит твои болячки.
Журавлёв протянул чёрному шаману стеклянную банку с противочесоточной мазью. Вапыскат понюхал банку, скривился от отвращения.
– Почему Рыжебородый хочет излечить меня от болячек?
– Наверное, потому, что ты хочешь наслать на него порчу.
– Он что, испугался, хочет задобрить меня?
– Нет, он посылает вызов тебе. Но вызов не зла, а добра…
– Выбрось банку подальше, вон за те синие горы, чтобы запах от этой отвратительной мерзости больше не беспокоил меня.
Вапыскат ещё раз понюхал содержимое банки, но Журавлёву её не вернул.
– Ладно, пусть побудет у меня. Только объясни… это надо есть, в чай намешивать или на мясо намазывать?
– Нет, это надо втирать на каждую ночь в тело, особенно там, где язвы.
– Ну если ты такой добрый… то не вотрёшь ли эту мерзость в моё тело, как только старуха поставит полог?