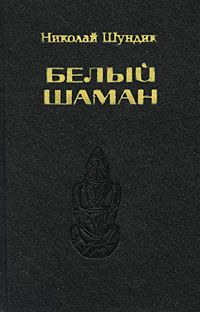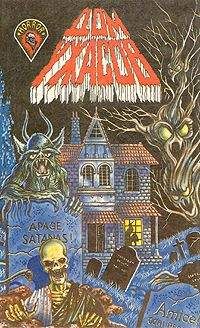Журавлёв не смог скрыть, что на какой-то миг растерялся. Хотел было сказать, что это сумеет прекрасно сделать и его старуха, но потом решил, что нужно в своей операции идти до конца. «Ах, Кэтчанро, Кэтчанро, сумасбродная твоя голова», – сказал он себе и воскликнул:
– Я согласен!
Вапыскат недоверчиво усмехнулся, опять понюхал банку, а Журавлёв размышлял: «Не хватало тебе и самому заразиться чесоткой, дурья твоя голова. А если у шамана не чесотка, а что-нибудь пострашнее?»
Вапыскат, поразмыслив о чём-то своём, громко сказал жене:
– Омрына! Ставь полог! Не медли ни мига. Я принял вызов этого странного гостя. И если мои болячки не исчезнут… ты будешь стрелять в него из винчестера, а я из лука…
«Ого! Вот это поворот, может, он думает, что к утру должен стать здоровым?» – подумал Журавлёв, а вслух сказал, стараясь показать, что к угрозе шамана он относится не более как к шутке:
– Болячки твои, возможно, и совсем не исчезнут. Во всяком случае, далеко не сразу. Может, через месяц, через два, если ты будешь втирать мазь каждый вечер…
Вапыскат тоненько ухмыльнулся.
– Тогда выбрось эту пакость вон туда, в те сугробы, куда мы сливаем содержимое ачульгина. Пусть к дерьму добавится другое дерьмо…
– Делай это сам, – с некоторым облегчением сказал Журавлёв и подумал: «Слава богу, не придётся заниматься чёрт знает чем…»
Но не тут-то было. Едва нагрелся от выпитого чая полог, как Вапыскат стащил с себя кухлянку, потом штаны и заявил:
– Я готов. Втирай в меня твою отвратительно пахнущую мерзость. – И уже с невольной робкой надеждой добавил: – Кто ж его знает, а вдруг поможет. Замучили меня болячки.
И это был голос больного, разнесчастного человека.
Сострадание на какое-то время победило у Журавлёва брезгливость. «Хорошо, хоть успел мяса съесть да чаю попить», – утешал он себя, закатывая рукава гимнастёрки.
Ох и отчаянная это была работа! Журавлёв втирал в покрытое язвами тело шамана мазь и прогонял подступающую к горлу тошноту глумливыми насмешками в свой адрес.
Вапыскат постанывал, поворачивался с боку на бок, пошлёпывал по своему сухолядому телу ладошкой, показывая, в каком месте особенно невыносимо донимают его болячки.
А Журавлёв, войдя в раж, творил своё врачевательное дело, вслух по-русски приговаривая:
– А-а-а, сопишь, чёрная твоя душонка, покряхтываешь от удовольствия! Пардон, не слишком ли побеспокоил? Мне бы на дуэли с тобой сражаться, на винчестерах, а я чёрт знает чем ублажаю тебя!
Вапыскат приподнял голову и спросил удивлённо:
– О чём твои говорения? Заклятия, что ли?
– Проклятия, а не заклятия! – по-русски ответил Журавлёв. – А ну, поднажмём ещё! Хорошо, что хоть от мази этой запах деготка доносится. Это даже приятные детские воспоминания навевает. Ну, ну, работай, самозваное медицинское светило, и вспоминай, как пахли сапоги у родного батюшки или шкворень в телеге. Это же надо, до чего докатился, шаманюгу злостного ублажаю, чуть ли не в массажисты к нему напросился. Ведьма бы тебя, мракобесину, помелом своим массажировала!
Омрына, зажав нос рукою, неподвижно сидела в углу полога, порой что-то едва слышно нашёптывала.
– Нагрей чайник воды, мне надо отмыть руки, – попросил её Журавлёв.
Старуха долго не могла понять, что от неё хотят, наконец подобострастно закивала головой, выбралась из полога, принялась заново раздувать костёр…
На второй вечер Журавлёв заставил «врачевать» своего «пациента» старуху Омрыну.
– Побудь сегодня моим ассистентом, поучись у профессора, – по-русски сказал Журавлёв, снова настраивая себя на тон отчаянного зубоскала. – Да и самой, поди, нелишне полечиться, вон все руки в язвах.
Когда Журавлёв покидал стойбище шамана, тот ему сказал:
– Ты не рассказывай, что втирал в меня вонючую мерзость.
– Что вы, что вы, сэр, врачебная тайна превыше всего! – воскликнул по-русски Журавлёв и по-чукотски добавил: – Даю обещание. Но обещай и ты мне, что будешь втирать мазь каждый вечер, пока не опустеет банка. Если будет мало – приезжай за новой.
К удивлению Журавлёва, Вапыскат и вправду через полмесяца приехал к нему поздней ночью, вошёл в палатку, попросился в полог.
– Впусти меня, я должен быть никем не замеченным…
«Ого! – мысленно воскликнул Журавлёв. – Да ты, брат Кэтчанро, никак входишь в тайный сговор с чёрным шаманом…»
– Спасибо тебе, что обещание выполнил, никому не сказал, что я втираю мерзость в своё тело.
– Почему ты думаешь, что я обещание выполнил?
– У всех людей тундры мозги от удивления выворачиваются, никто не может понять, чем от меня пахнет… Если бы ты хоть слово кому сказал… все сразу поняли бы, что случилось…
А среди чавчыват и в самом деле возникали самые невероятные слухи о странном запахе, исходящем от чёрного шамана. Кто говорил, что он нажрался какого-то особого снадобья из корней и мухоморов, возможно, что даже помёта Ивмэнтуна туда подмешал; кто высказывал предположение, что он и самого Ивмэнтуна сожрал прямо живьём. А старик Кукэну клялся: «Пусть на моей лысине трава болотной кочки вырастет, если Вапыскат, как со своей родной старухой, не обнимался с самой вонючей росомахой. Тут уж, что было, то было, не зря даже волки, кажется, дохнут, как только до них донесётся омерзительный запах чёрного шамана».
– Удивляется тундра моему запаху, – повторил Вапыскат с таким видом, будто приводил доказательства собственной доблести.
– Ну а болячки… проходят?
Вапыскат растопырил пальцы, бережно подул на них, радостно заулыбался:
– Это диво просто, как мерзость твоя помогает. Дай мне ещё, я хочу исцелиться до конца.
– Хорошо, я дам ещё одну банку мази, однако при одном условии…
Вапыскат насторожился.
– Только плохой человек делает добро на каком-то условии…
– О, и ты о добре заговорил! Браво, браво! – по-русски воскликнул Журавлёв, а по-чукотски возразил шаману:
– Ты можешь сказать людям, что твоё исцеление произошло благодаря твоей сверхъестественной шаманской силе.
Вапыскат прикурил от свечи, которой Журавлёв обычно освещал свой полог, и уже тоном необычайной гордыни сказал:
– Так оно и есть! Мерзость твоя отвратительным запахом привлекла моих главных духов, которых я ещё в молодости растерял. Вот кто меня исцелил… Теперь можешь рассказывать про это всем. – Вапыскат поклевал согнутым пальцем по стеклянной банке. – А Рыжебородому передай, что он не победил меня. Он хотел своей мерзостью исцелить моё тело, но душу ослабить. Но я как был чёрным шаманом, так и остался им. Однако заклятия свои я, пожалуй, сниму, пусть теперь не боится, что моя порча его настигнет.
Язвительно улыбаясь, Журавлёв воскликнул по-русски:
– О, как вы великодушны, ваше шаманское преподобие!
Нырнув рукой под чоургын полога, Вапыскат достал тряпичный узелок, бережно развернул его.
– Вот тебе моя старуха гостинец прислала… лепёшку прэрыма.
Журавлёв присвистнул:
– Ну-у-у-у, брат Кэтчанро, тебе уже и подношения делают. Далеко пойдёшь, профессор дерматологии. Впрочем, ты и зубы теперь рвать можешь. Чёрт его знает, может, я и в самом деле медицинское светило в себе погасил.
– Ты что опять меня лечишь заклинаниями? – спросил Вапыскат, и в тоне его явственно прозвучали дружелюбные нотки.
«Ишь ты, как сладенько заговорил, а недавно по палатке из винчестера садил», – подумал Журавлёв и спросил у шамана в упор:
– Ну а стрелять по Красной яранге больше не будешь?
Вапыскат долго мигал, наконец ответил загадочно:
– Бывает, что страх человека накликает в его сторону пулю. Трусливый иногда так вот и уходит в мир предков.
– Видал, каков гусь! – оскорблённо воскликнул Журавлёв. – Он меня пытается уличить в трусости. Нет уж, шаманское твоё преподобие, такого ты от меня не дождёшься!
– Я чувствую… ты по-русски бранишься, потому ухожу, – заявил шаман, завёртывая в освободившуюся от прэрыма тряпицу банку с мазью.
– Катись, катись! – с весёлой злостью напутствовал Журавлёв шамана.
Долго не мог уснуть в ту ночь Журавлёв, зажёг ещё две свечи, принялся за дневник. Нет, он не просто записывал факты, он размышлял, размышлял по поводу фактов. В тот раз он записал: «Мало, конечно, в противочесоточной мази романтики, и, может, куда было бы романтичнее выходить на поединок с шаманом, имея винчестер в руках. И всё-таки я ему вмазал кое-что посущественней, чем пулю винчестера…»
И вот теперь, наслаждаясь простором и чистотой своей комнаты на культбазе, Журавлёв перечитывал дневник, заполнял новые страницы. Комично приосанившись перед зеркалом, он взвесил на ладони засаленную, залитую стеарином толстую тетрадь, сказал с шутливой велеречивостью:
– Это тебе, брат, мысли. Наблюдения и мысли!
В комнату ввалился корреспондент окружной газеты Геннадий Коробов. Он уже больше недели жил у Журавлёва, и молодые люди успели подружиться. Был Коробов высок и нескладен, с кудрявой гривой волос, знал на память уйму стихов, любил пофилософствовать. Стихи он читал с упоением, подвывая, философствовал заумно, клялся, что напишет роман о Чукотке, даже язык чукотский начал для этого изучать. Завидовал Журавлёву: