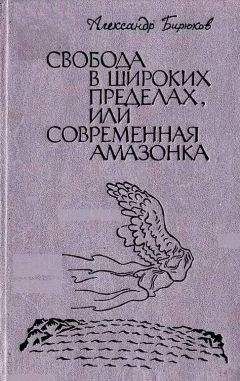А потом письмо от Софьюшки и страхи за Виктора, и сверкание по квартире голяком — около глазка у двери. Кто мог ею восхищаться, когда она сама себе была ненавистна в те минуты и часы даже, полночи так вот прыгала?
А от Ханбековой и вовсе бежать пришлось, пока она ей, Нине, в голову не вцепилась и метлой ее не отлупила. Вот и сверкала пятками, спасаясь от побоев.
И это получается все, весь набор удовольствий (ну было, есть и будет, наверное, некоторое поблескивание в университете, на занятиях, но ведь этого мало, конечно). Как здесь не поискать новых возможностей? Тем более заведомо известно, что Лев Моисеевич эта сверкание примет и оценит, да и ему к тому же приятно будет, если она встретит его наточенной и навостренной, а не распустехой в халате. Такой ей теперь, наверное, и по роли быть полагается.
Была потом неприятная минута, а точнее, минут, наверное, пять или десять, когда она, полностью приготовившись и прикинув, что подать к чаю, сидела дожидалась, не зная, куда себя девать, и никакого тебе звоночка в дверь, нет никого — передумал он, что ли? В эти минуты было особенно стыдно оттого, что произойдет, — а уж если не произойдет — то вдвойне и втройне. Чтоб ты треснул, Канталуп несчастный, чтоб у твоего такси колесо отвалилось. До чего она докатилась, если вот так сидит и ждет, когда он явится? Что же с ней делается-то?
…Она отстранилась от его умелых, но ставших ненужными рук, потому что скорее угадала, чем услышала, очень далекий и еле различимый звук трубы. Она еще прислушалась, больше к самой себе, чем к обычным ночным шорохам стандартной девятиэтажки, дожидаясь, когда он повторится. Ну да, вот и снова он, тот самый, что она слышала последний раз первого сентября, когда играли общий сбор, а потом стремительный поток, ворвавшись в их здание на Моховой, затопил беломраморную лестницу и она, пребывая мысленно в его рядах, на самом деле парила над ними, под самым куполом, еле удерживаясь, чтобы не оторваться от перил, и дожидаясь, когда же наконец он иссякнет и все вокруг начнет рушиться и корчиться в знакомых уже нестрашных картинах, как в тот первый раз, когда она билась головой о замок чердачной двери и летела потом на мягких, но дурно пахнувших полах какого-то полушубка.
Переваливаясь, она, кажется, больно толкнула его локтем, он как-то смешно вскрикнул, отползая, а ей уже некогда было даже обратить на это внимание, потому что сейчас нужно было как можно скорее включить свет (шторы, кажется, задернуты, но и это неважно), поставить на диск пластинку (пусть она не самая лучшая, но хорошо что хоть такая есть), тогда этот вал обрушится на нее и будет мотать ее, вознося и захлестывая, и же будет возноситься и рушиться примерно так же, как и тогда, и не обязательно, чтобы пахло скипидаром или керосином, как в первый раз, это, наверное, не так важно. Только бы он сидел тихо и ничему не помешал.
…Она проснулась через несколько минут на том же месте, где и лежала, когда последняя волна с головой накрыла ее. Все было в комнате по-прежнему: свет, включенный проигрыватель, разворошенная постель, только одеяло переместилось сюда, на пол, — он, наверное, укрыл. Из ванной слышался шум воды.
Она дождалась, когда он выйдет, бодрый и подтянутый, встретила его внимательный, профессиональный, что ли, взгляд и проглотила назидательную пилюлю, что-то вроде «Очень вы это остро переживаете, мамзель. А я по вашей милости или дурости мог без глаз остаться». Но ведь не остались же? И нечего теперь переживать. А вам хотелось чего-нибудь тихого и уютненького? Такого, извините, не держим. Поищите где-нибудь в другом месте.
— Ничего, — сказала Нина, — обошлось ведь? О чем говорить?
— С вами, девушка, не соскучишься.
Можно было бы ему возразить в том духе, что не скучать он сюда ехал и вообще не ради скуки этот притон организовал. Но, кажется, она свою часть программы честно выполнила, серьезных претензий к ней нет, синяки и мелкие ссадины (фигуральные, конечно, не будет же она его на самом деле рвать на части, ему ведь домой ехать) — необходимые издержки производства, платите, и до свидания.
— А вы прямо тигрица какая-то, — все так же прихохатывал он, повязывая в передней перед зеркалом галстук. — Я даже, знаете ли, испугался. И часто с вами такое?
— Много знать хо-чи-те, мужчина!
Она еще дурашливо оскалилась, чтобы подыграть ему, понимая, что настроение у него в этот момент, должно быть, не самое лучшее — ему бы, конечно, какую-нибудь мягонькую булочку-дурочку типа Оленьки пожевать-послюнявить, но кто виноват, если такая ошибка вышла и он с амазонкой связался? С нее, как говорится, взятки гладки! И так сил совсем нет, еле на ногах после этих диких волн стоит, а он хочет, чтобы она перед ним пристыженность и виноватость разыгрывала. Не слишком ли вы, действительно, много хо-чи-те, малоуважаемый Канталуп?
— Ну спасибо, деточка. Ждите через неделю, только подумайте над репертуаром, — все это скороговоркой, в параллель с вручением купюры того же достоинства.
Она не удержалась и захихикала, когда он изобразил на прощанье что-то вроде покровительственного родительского объятия с попыткой запечатлеть едва ли не отцовский поцелуй на ее лбу. Не шалите, папочка! Даже самые умные люди в иные минуты выглядят совершенно глупо, а в такие вот и вовсе по-идиотски. Или так уж ему необходимо все расставить по местам и на прежний пьедестал вернуться? Но она ведь видела его удивленные, испуганные даже глаза, когда он, тем не менее, бесстыже пялился, прячась за кустики, а эти волны обрушивались на нее с диким воем. И после этого извольте перед ним наивность разыграть: да, папенька, я подумаю, как вам будет угодно. Ну уж нет, все так и будет, как и раньше. От добра добра не ищут. Только пластинку она подберет другую, раз теперь у нее деньги есть. И в остальном эти деньги с умом употребит. Спасибо, папенька!
Ночью за стенкой опять плакал ребенок, что-то опять, наверное, у маленького человека приключилось — животик, может, болит или зубки режутся. Интересно, сколько ему? Голос совсем-совсем тоненький, рано еще, наверное, зубкам. И вот ведь что интересно: в первый раз его Нина услыхала, когда Лев Моисеевич сюда приехал, и вот сейчас — опять… Словно между его визитами и болью того маленького какая-то связь существует. Но откуда ей быть? Чепуха это, вздор, простое совпадение. А может, оттого, что она просыпается потом среди ночи, уже под утро, и пялится в темный потолок, тогда все шорохи и звуки притихшей девятиэтажки беспрепятственно входят в спокойно и трезво работающий мозг? А в иное время хоть рядом стреляй — она не услышит, музыка к тому же у нее часто играет, может и она этот плач заглушать. Но сегодня уже больше ничего не будет. Спи, маленький, дядя больше не придет. А хочешь, я возьму эту боль себе — сама за тебя пострадаю, а ты спи спокойно, ладно? Спи, маленький, дядя не придет.
Тут подошла газета. Вернее, дата выхода уже подошла, на подходе была, а с материалами, как водится, полная нехватка, художниц-бездельниц днем с огнем не найдешь — им бы только на лекциях новые модели рисовать, модельеры доморощенные, а потому и неистощимые, корреспонденток с курсов (о группах уже и говорить нечего), которых Бубенцов бился собирал, тоже ни одну не поймаешь. Ну никого не поймаешь, никого нет, всем некогда, хоть ложись на эти листы, предварительно краской (или сажей?) намазавшись, запечатлевай волшебные контуры своего тела во всю его длину (но все равно на семь листов ватмана не хватит, надо еще кого-то положить, пусть, ногами одна от другой оттолкнувшись, две амазонки в разные стороны разлетаются — идея, а?), ну а вокруг каких-нибудь херувимов раскидать или купидонов со стрелами. Старомодно, правда, но красиво. Но ведь это — что? Мечты идиота, никто такую газету не пропустит, да и не нужна она, такая, никому, хотя, конечно, никакой порнографии в ней не будет и никаких злых идей, только прекрасные линии красивых тел. Ну вот, скажет Бубенцов, и оставьте их себе, и правильно, между прочим, скажет, нечего дурака валять, а изволь бегать с высунутым языком по коридорам во время перерывов, карауль преподавателей и бездарных вертихвосток, выбивай и вымаливай у (из) них заметки.
Суета, нервотрепка, бестолковость (плюс полное отсутствие литературных способностей у большинства авторов; Таньку, черт побери, — уже сто лет не видела, надо бы, преодолев страх, явиться к ним на Солянку как ни в чем не бывало, прийти пообщаться с этим талантливым полотнищем, знаменем и хоругвью, а то совсем чужие стали).
Вошла ты резкая как «нате» муча перчатки замш сказала знаете я выхожу замуж (ранний Маяковский, цитата по памяти, возможны неточности).
Простите, а замужество тут при чем? То есть почему — это понятно. Посмотреть, как челюсть у Льва Моисеевича отвалится. Он ведь думает, что покупает, что купил уже насовсем, на много лет вперед за две сотни в месяц (четыре визита по пятьдесят рэ, чаще, наверное, не будет), поймал ее на любви к тряпкам (…ловит нас на честном слове на кусочек колбасы, Булат Окуджава, «Черный кот»), а она — вот вам пожалуйста: «Знаете (очень это слово здесь на месте, «знаете» — сразу снижает ситуацию до обыкновенной, бытовой, расхожей), знаете, я выхожу замуж!» Монета (чашечка кузнецовского завода) покатилась, звеня и подпрыгивая. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей… Я приближаюсь к месту своего назначения (отрывки школьной премудрости, оттуда же и строчки Маяковского). Ну хорошо, Льва Моисеевича мы таким образом непременно щелкнем. Но сама мысль-то откуда — не из этого желания щелкнуть ведь она родилась, да что за ребячество, право, разве с благодетелями так можно обращаться — щелкать… Мысль явно с другой стороны подвалила.