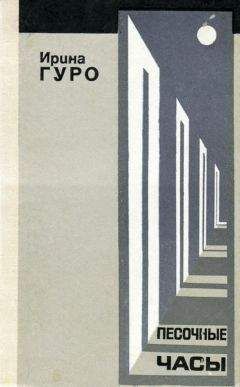— Не обольщайся, Вальтер. И спеши. Бирхалле наверняка уже обложена со всех сторон. Только ты можешь предупредить Филиппа. Если еще не поздно.
— Иду. — Я механически проверил: закрыт ли газ — и только в эту минуту осознал, что вряд ли возвращусь сюда… — Тебе лучше выйти первым, Конрад.
— Да. — Он обнял меня.
Его слова «Если еще не поздно» прошли как-то мимо меня. Вначале. Когда я вышел из омнибуса, они всплыли, укрупнились и, словно что-то объемное, встали между мной и окружающим. И я ускорил шаг, преодолевая его.
Если бы я не был предупрежден, то ничего бы не заметил. Несмотря на весь свой опыт.
Точильщик со своим колесом и так достаточно намозолил глаза, лавчонка с гофрированной железной шторой ведь существовала спокон веку. А то, что сейчас в ней оказались сразу три покупателя, еще ничего не значило.
Но я уже видел, я уже точно все знал: и про точильщика, и про лавчонку. А яркий дневной свет, раскрывающий и безжалостный, выдавал их. Их — тоже.
Песочные часы стояли. Верхняя колбочка была пуста. И я перевернул их.
В бирхалле еще не начиналось обеденное оживление. Только те двое, спокойные пожилые люди из соседних домов, пили пиво и обсуждали последние известия с фронтов.
— Где же новое оружие, а, Ганс? — спросил один, не ожидая, впрочем, ответа.
Филиппа за стойкой не было, и я прошел во внутреннее помещение. Даже сейчас, без пиджака, в подтяжках и с очками на носу, над разложенными на столе счетами, он выглядел монархом. Какого-нибудь очень бедного, сказочного государства.
Когда я все сказал ему, он немного побледнел и задумался.
— Но ведь Лемперт ничего не знал, — сказал я с надеждой.
— Не обольщайся, — как странно: он повторил слова Конрада. — Он ничего бы не знал, если бы не хотел знать.
Он надел свою повседневную вельветовую куртку с обвисшими карманами. Его широкие брови как сдвинулись при моем появлении, так уж не раздвигались. И выглядели, словно круто посоленные хлебные корочки: так много седых волосков просматривалось в них теперь.
— Я заметил за собой хвост. Сначала думал, что это так… По их системе: на выборку. Но потом убедился: они действуют слишком нахально. Как перед самым концом. Значит, Лемперт…
Я молчал, и он продолжал:
— Конрад знает, что говорит. Пойди спроси, не надо ли им чего-нибудь там, в зале… А потом я их выпровожу. Зачем их путать в дело?
Клиенты заказали еще пива. Когда я подкладывал под кружки картонные подставочки, я прочел на одной из них приказ варить картофель неочищенным — из экономии, а на другой — остерегаться шпионов.
Вернувшись к Филиппу, я увидел, что он аккуратно отложил в сторону счеты и бумаги и тряпочкой, продетой в отверстие шомпола, протирает ствол своего парабеллума. Части его лежали на чистом полотенце, разостланном на столе.
— Ты подал им?
— Да, пиво.
— Еще успеют его выпить. Раньше вечера к нам не сунутся.
— Сейчас темнеет в шесть часов.
— Да, верно.
Мне было тяжело смотреть на Филиппа, и я вышел в «зал».
— В Люстгартене в тот день, подумай только, выступал Тедди, в кинотеатре на Цоо — Вильгельм Пик, — говорил тот, кого назвали Гансом.
«Они совсем старики», — подумалось мне.
Филипп вышел в зал. Он сменил куртку на темный пиджак и выглядел очень представительно, когда объявил:
— Друзья мои, сегодня вечером здесь будет слишком весело. Я не хотел бы, чтобы мои клиенты пострадали из-за того, что десятки лет посещали мою кнайпу…
— Не скромничай, Филипп, — ответил Ганс после паузы, — у тебя настоящее заведение. Что ты скажешь, Гуго?
— Гм. Что скажу? — Гуго не был красноречив, это можно было понять сразу. — Я скажу так: мы ведь не только твои клиенты, Филипп.
Он поднял свою кружку, еще недопитую, и стукнул ею о подставочку с упреждением насчет шпионов.
— Я не уйду отсюда, — добавил он.
— Мы остаемся… — подтвердил Ганс. — Если нам подадут по рюмке чего-нибудь живительного…
— Штейнхегер доппельт! — распорядился Луи-Филипп.
— Яволь! — отозвался я и опрометью бросился выполнять приказ моего короля.
Часы текли. Мы не снимали с наружной двери таблички «Закрыто». Я вышел только на минуту, чтобы перевернуть часы и проверить, что изменилось в обстановке. Оказалось: немногое. В лавке опять трое покупателей, уже других; точильщик исчез, но под фонарем нежничала парочка. Смеркалось.
— Теперь тебе пора, — сказал Филипп. — Уходи, Вальтер.
Меня словно ударили.
— Разве я пришел только затем, чтобы подать гостям выпивку?
— Спокойнее. Я говорю это — амтлих! Ты уйдешь, не подавая виду, что заметил неладное. И завтра придешь сюда, как обычно. Что бы ни случилось, ты должен прийти, словно ничего не подозреваешь.
У меня так дрожали руки, что я никак не мог повесить на обычное место свою белую кельнерскую куртку. Неожиданно я почувствовал, что даже она мне дорога.
Луи-Филипп нетерпеливо поглядывал на меня: скоро ли я уберусь.
А я не мог… Не мог оторваться от него. В эту минуту был он мне ближе всех на свете. Я увидел, что он в самом деле — король. Король маленькой державы, написавшей на своем знамени только два слова: фашизму — нет!
Маленькой достойной державы, выбравшей своей эмблемой песочные часы…
Когда я открывал дверь квартиры, на лестнице возник блоклейтер Шониг.
Мне было не до него, я сказал, что хочу выспаться.
— Ах, Вальтер, как я завидую тому, кто может спать! Я совсем не сплю!
Он стал жаловаться на свои болезни, а я стоял перед дверью, чтобы не пригласить его войти.
Но изменил свое намерение, когда он вдруг сказал:
— О тебе справлялись, Вальтер. Конечно, я дал самые лучшие отзывы. Как же иначе? Ты же был ей как сын…
Он произнес это «ей», словно говорил о самом фюрере.
Я не ожидал такого оборота дела: старуха «играла на меня» даже из своего Дома в Пельтове.
— Зайдите, господин блоклейтер, — пригласил я. — Извините, у меня даже нечего выпить.
Блоклейтер оживился: он действительно был ужасающе одинок. Он ведь не был «звездой», как Альбертина. Это ее свет падал на его хилую фигуру…
— Если вы не против, я сейчас принесу кое-что.
Мы расположились как добрые друзья. А Шониг имел талоны на сверхнормированное питание.
Он немного захмелел после второй рюмки. И теперь я внимательно слушал весь этот бред насчет его жены, которая якобы умерла от тоски по негодной Лени, и все прочее… Слушал потому, что надеялся выудить что-нибудь для себя. Но он сказал только, что устроит меня в самое лучшее место, «не чета вшивой бирхалле».
Впрочем, и этого было достаточно: он знал или догадывался, что моя служба в бирхалле кончилась.
Шониг так и заснул в кресле Альбертины, уронив на грудь голову с заметно увеличившейся зеленоватой плешью, похожей на озерцо в торфяниках.
А я не мог задремать ни на минуту. И ходил туда-сюда по квартире, машинально отмечая то прогнувшуюся половицу, то пятно на обоях — приметы запустения.
И все еще надеялся. Надежда последней оставляет человека… Кто это сказал? Вдруг Филипп каким-то чудом уцелеет!..
Ночь казалась бесконечной, как война. Вечная ночь поглотила город. И бирхалле с песочными часами. И человека с широкими бровями и величественной осанкой, с которым я прожил, как теперь понял, не годы, а целую жизнь.
«Спи, дитя человеческое!» — сказал он однажды. И хотя эти слова относились не ко мне, они остались со мной. Дитя человеческое, я страдал и утешался, страдал и утешался рядом с ним…
Я любил вас, Луи-Филипп. Всегда любил вас. Вы даже не знали этого. Может быть, я сам не знал.
Любил смотреть на вас, когда вы величаво возвышались над стойкой и окидывали свои владения взглядом рассеянным и бдительным одновременно. И, слегка наклонив голову, слушали Франца, и вдруг закатывались смехом, так что посуда звенела на стойке, а вы махали на Франца рукой, не в силах сказать ни слова… Вы были смешливы, как ребенок, мой король! Были?..
Вы не позволили мне остаться с вами до конца. Предпочли мне двух отважных стариков. Наверное, потому, что им легче выскочить из передряги: случайные посетители — так это выглядит…
Медленно, натужно начало сереть за окном. Словно мелкий серый песок сыпался сверху почти незаметно, но до ужаса равномерно, как само Время. И не верилось, что настанет день.
Тоска навалилась на меня. И я вышел на улицу, рискуя нарваться на ночной патруль.
Было еще серо. Маскировочная лампа над дверью лавчонки, однако, уже не горела. И фонарь у бирхалле — тоже, я это сразу заметил. Так же как и разбитые стекла в обоих ее окнах, выходящих на улицу. Я подошел ближе: дверь бирхалле была опечатана. Я посмотрел на красный сургучный кружок, как на старого знакомого.