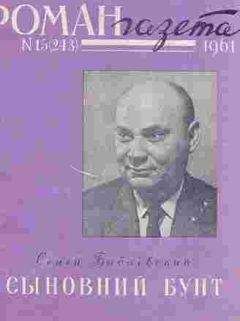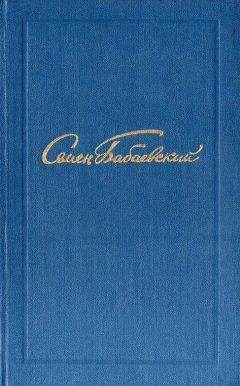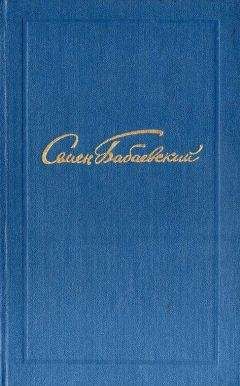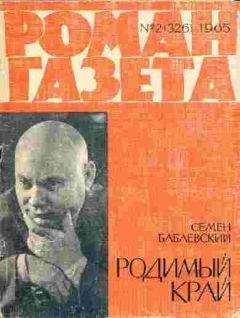На улице Семену чудилось, будто за ним гнался Иван. От мысли, что Иван вот-вот схватит его за талию и крикнет: «На выжимки!» — стало так страшно, что он, подобрав полы рясы, ускорил шаги. Отошел подальше от книгинского дома и оглянулся. Улица лежала пустая. Чей-то кудлатый, бурой масти пес стоял у глиняной изгороди и диковато поглядывал на журавлинского по Семен продолжал свой путь, и ему снова виделся Иван, слышались его шаги и даже голос: «Что тебе ответила Ольга? Забыл?» Семен оглянулся и облегченно вздохнул. Никакого Ивана не было, и только рудой пес все так же стоял у глиняной изгороди… «Что за наваждение, господи!» — думал Семен, мелко крестясь и торопливо шагая по улице.
В своей комнате, не раздеваясь, вытянулся на диване. Пролежал, тоскливо глядя в потолок, пока сторож Ерофей не зазвонил к вечерне. Тончайший голосок обрубка рельса пронизывал тишину, за ползая в хаты, звал, навевая грусть. И Семён прислушиваясь к нечастым ударам молотка о сталь, всплакнул, как, бывало, плакал в детстстве. Затем поднялся, вытер платком глаза. Дымчатые сумерки гнездились по углам… А стальной голосок звал, требовал. Семен подошел к окну, посмотрел во двор. «Что это со мной? — думал он. — Или захворал, или какой бес вселился в меня?.. Пойду, пойду в церковь, помолюсь богу…»
И шатко, как больной, пошел через двор на улицу.
Все чаще и чаще по утрам появлялись над Журавлями лоскутья туч, и плыли они, не торопясь, неведомо куда; все чаще и чаще перепадали дожди, тихие-тихие, без гроз и без ветров. Дороги в Журавлях и в степи размокли и так испортились, что «Москвич», на котором ехал Григорий, частенько буксовал и елозил колесами, как пьяный ногами. В дождь, в непогоду думки о том, что новенький, цвета небесной синевы «Москвич» в зиму остается без кровли, еще больше мучили Григория и были невеселыми и тягучими, как и этот обложной дождь. Григорий никак не мог понять: почему отжившую свой век землянку нельзя еще при жизни деда Луки приспособить под жилье для машины и хотя бы не всю ее, а только ту комнату, в которой жил с семьей Григорий и которая теперь пустовала? Неужели Иван Лукич в самом деле собирается сделать в этой землянке какой-то музей? И что это за музей и кому он нужен?
Часто, не находя ответа, Григорий тоскливо смотрел на землянку, и в том месте, где два оконца поглядывали на улицу, видел просторные, на крепких железных петлях двухстворчатые ворота. Не отрывая полного грусти взгляда от землянки, Григорий мысленно раскрывал новенькие ворота и так же мысленно въезжал на «Москвиче» в комнату. Чтобы лишний раз убедиться, хорош ли получается гараж, Григорий незаметно прошмыгивал мимо лежавшего на своей низкой кровати деда Луки. Подолгу осматривал соседнюю комнату и опять — в который уже раз! — глазами примерял, как и где расположится новый жилец и сколько тут потребуется ему места. Если убрать стол и лавку — а они непременно будут убраны, — то «Москвич» очень удобно станет рядом с печкой, а задние колеса подойдут вплотную к тем дверям, что ведут в комнату деда Луки.
Григорий стоял и мечтательно, глазами, облюбовывал то место, которое займет «Москвич». Раздумывал над тем, как бы так выломать саманную стену и поставить ворота, чтобы дед Лука не услышал… Верилось, что всю эту работу, если хорошенько заранее к ней подготовиться, можно выполнить за одну ночь. Пока дед Лука будет спать, просторные ворота могут стать на свое место, и у «Москвича» появится свое жилье. Увидеть все это дед Лука не сможет — слепой, а когда додумается ощупать ворота руками, то ругаться или жаловаться Ивану Лукичу будет поздно. И лучше всего, как полагал Григорий, вынуть стенку и поставить ворота в эти дни, пока Иван Лукич находился в Москве.
Лес был приготовлен давно и лежал в новом доме. Не теряя времени, Григорий попросил кузнеца Ольшанского отковать из шинного железа навесы и крюки к ним, затем пошел к плотнику Игнату Аксенову договориться, чтобы Аксенов сделал откосы для ворот. Аксенов был человек суровый и до крайности скупой на слово. Просьбу Григория выслушал молча, так же молча вместе с Григорием пошел к землянке, посапывал простуженным носом, осматривая стену в том месте, где должен быть въезд. Почему-то постучал в стенку кулаком и не сказал ни слова. Сел на завалинку, закурил толченного в ступке самосада и наконец спросил:
— А как дедусь? Согласный?
— Уже согласился, — не моргнув глазом, соврал Григорий. — Вчера побеседовал: так и так, говорю, дедусь, новенькая машина гибнет… Ну, отвечает, раз такое дело, согласен, строй…
— Поставить ворота, Гриша, можно, — не слушая Григория, сказал Аксенов, — но потребуется чертежик…
— Какой такой чертежик? — удивился Григорий. — Размеряй на глаз — и все тут!
— На глаз, Гриша, не могу… Передо мной должен лежать полный расчет, чтоб видно было, что и как…
— Возьми аршин, вымеряй длину и ширину, и начнем рубить стенку!
— Э, не-ет! — нараспев сказал Аксенов. — Ты что, Гриша, толкаешь меня на преступление, хочешь, чтоб вся твоя землянка рухнула? Не-е-е! Без чертежа нельзя!
— Да где же я тебе его возьму?
Аксенов долго молчал, как бы собираясь с мыслями.
— Пойди, Гриша, к своему брату-архитектору, лучше его никто эту штуковину не составит. Попроси брата, и он вмиг набросает нужный чертежик. Тогда я по тому чертежику все в точности сработаю… А как же ты хотел? Это тебе не землю пахать! Без чертежика мне нельзя, а по чертежику можно!
— В цене как сойдемся, Игнат Семенович? — спросил Григорий.
— Кто стенку будет ломать? — в свою очередь спросил Игнат.
— Сам возьмусь и сосед Семен обещал подсобить…
— Знать, мое дело — откосы и ворота? Ну, что ж, Гриша, я с тебя дорого не возьму… Пять сотенных бумажек и магарыч…
— Да ты что, Игнат Семенович, в своем уме? Да где видел такую цену?
— Цена сносная, — стоял на своем Аксенов. — И надобно учитывать то обстоятельство, что дело это сильно опасное. Риск!.. Стена древняя, как и дед Лука, ее только тронь. Потолок упадет, вот тебе и вся землянка рухнет… Ежели дорого, Гриша, то поищи другого мастера… Сильно опасная работа, Гриша, учти! Надо рисковать!
Как ни упрашивал Григорий сбавить цену и сделать ворота не за пять, а хотя бы за четыре сотни, Аксенов помалкивал и стоял на своем. Григорий не знал того, что там, где речь шла о деньгах, Аксенов был крепче кремня… Григорию ничего не оставалось, как принять это поистине кабальное условие, и он сказал:
— Ох, и живодёр же, Игнат Семенович! Не думал, что ты такой жадюга! Ну, ладно, не мычи, согласен! Получишь свои пять сотенных. Только хочу предупредить: работа срочная, и стенку ломать, ворота ставить будем ночью… Стемнеет — начнем, а к рассвету чтобы все стояло на своем месте… Понятно?
— Это можно, ежели заранее подготовиться и подналечь, — согласился Аксенов. — Ты зараз же пойди к брату Ивану и попроси у него чертежик… Дело опасное, так что без чертежика приступиться к нему нельзя.
Если бы кто знал, как не хотелось заходить к Ивану вообще, а особенно с этой просьбой! Но нужда толкала, и Григорий пошел. Не любил Ивана, а почему — сам толком не знал. Известно ему было лишь то, что нелюбовь эта пришла к нему в тот вечер, когда братья сидели на завалинке и беседовали о жизни. Тогда, слушая возражения Ивана, Григорий понял, что у него с братом ее одинаковые пути-дорожки и что до этого дня шли они не вместе и дальше пойдут врозь; что и на обыкновенную жизнь они, оказывается, смотрят разными глазами… А почему? Ивану не нужна собственность, привык гулять по белому свету и жить на манер странника… А Григорию нужны и дом, и «Москвич», и гараж для машины, и жизнь обеспеченная…
— Многое в брате Григорию не только не нравилось, но было непонятным и странным. Прежде всего непонятным было то, что Иван после девятилетней отлучки почему-то приехал в Журавли делать свой диплом, будто во всем свете не было других сел. «А почему приехал именно в Журавли? — думал Григорий, направляясь по раскисшей улице к брату. — Потому сюда заявился, что захотел, хвастун, показать себя… Поглядите-де, какой я стал ученый, как я умею чертежи рисовать и родного батю злить…» Странным и непонятным казалось Григорию и то, что журавлинцы и хуторяне полюбили Ивана. А за что? Неужели люди поверили в то, что Иван перестроит Журавли, и те, кто ютится зараз в землянушках, будут жить в двухэтажных домах? В Журавлях и на хуторах только и разговору, что о новых Журавлях…
Не нравилось Григорию и то, что Иван превратил отцовский дом в мастерскую и не только чертил там свои планы, а и рисовал смешные карикатуры; не было того дня, чтобы не являлись к Ивану разные зеваки. И еще не нравилась эта странная женитьба на дочке Закамышного… И кто может поверить, что Иван не мог найти себе жену в Москве и влюбился в эту сумасбродную Настеньку? Никто не поверит, потому что таких дураков нет… «Всем же видно, что это дурость, а не женитьба, — размышлял Григорий, открывая калитку и входя во двор отца. — Обесчестил девчушку, закружил ей голову, а теперь и не знает, как из этого горя выпутаться… Да еще и живут, как на смех, нерасписанные… Ох, и мудрец же ты, Ваня!.. Только гляди, братуха, домудруешься…»