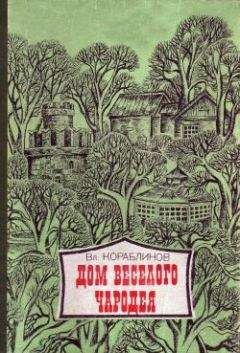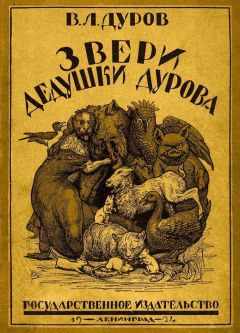Пенсне соскользнуло с крупного носа, повисло, поблескивая, на черной тесьме.
– Вот мать обрадуется… – забормотал, помогая сыну развязать башлык. «Чему ж ей радоваться, – тут же сообразил, – что это я говорю…»
Сегодня они собирались музицировать. Кедров уже пришел, сидел в гостиной, перелистывал нотную тетрадь. Он благодушествовал. Спектакль «Лекарь поневоле», который давали на сцене Семейного собрания и где он отчаянно смешил публику, прошел с небывалым успехом. «Ну, Александр Яковлевич! Ну, талант!» – только и слышалось при разъезде.
– А-а, студиозус! – воскликнул, слегка актерствуя. – К родным пенатам, так сказать…
– Ну-ну, пойдем к матери, – присяжный поворачивал сына к двери, словно подталкивал. – Как-нибудь, понимаешь, с ней этак… поосторожней, не сразу…
А она, услышав голос сына, уже спешила в гостиную, радуясь его приезду, и, хотя материнским чутьем понимала этот неожиданный приезд как беду, – все равно готова была претерпеть любое, лишь бы Сашенька ее был здесь, рядом, – ее прелестный первенец, ее радость…
Но тут снова взыграло медное блюдечко, и в комнату, не раздеваясь, в шубе, с волною свежего, яблочно-морозового холода влетел Чериковер.
– Вот-с! – воскликнул, хохоча, задыхаясь. – Вот-с, приятель-то наш! Землячок-то!
Кинул на стол свежую, еще пахнущую краской газету.
– То-о-рре-а-доррр… Сме-еле-е в бой!
– Ох, болезный ты мой! – смешно, по-бабьи, пригорюнился Кедров. – А я ведь и раньше замечал: не тово, мол, у нашего Сёмушки… Ой, не тово!
– Тово, не тово! – рассердился Чериковер. – Извольте-ка читать, господа!
Статейка была обведена красным карандашом.
ИЗ ИСПАНИИ СООБЩАЮТ:
Наш прославленный клоун, король смеха Анатолий Дуров выступил в Мадриде на знаменитой Плас-де-Торос в роли заправского матадора. Эксцентричная выходка знаменитого артиста представляет собою не что иное, как один из видов рекламы, на выдумку которой столь неистощима фантазия г. Дурова. После недолгой смертельно-опасной схватки гигантский бык рухнул, пронзенный шпагой отважного смельчака. Восхищению публики не было предела. Оригинальная реклама принесла свои плоды: все билеты на выступления г. Дурова в цирке распроданы на целый месяц вперед.
– Артист, артист! – воскликнул Александр восхищенно. – Ах, да не плачьте вы, мама! Все образуется…
– Золотые слова, – усмехнулся Чериковер, догадываясь о причине неожиданного приезда младшего Терновского. – Не ты первый, не ты последний.
– Поехали, – пригласил Кедров, усаживаясь за рояль. – Не конец же света, в самом-то деле…
Затем была музыка.
Тереза Ивановна Дурова, по паспорту значившаяся Терезой Штадлер, девицей, вероисповедания лютеранского, была матерью троих детей Анатолия Леонидовича: двух девочек, Евлампии и Марии, и мальчика Анатолия.
Пока Дуров «покорял» Европу, она с детьми жила в «Гранд-отеле», где занимала три комнаты. При ней находились двое у с л у ж а ю щ и х – смышленая, грамотная деревенская девушка Феня и знакомый нам крохотный человек Клементьич.
Однако жить в номерах стоило довольно дорого, и хотя Анатолий Леонидович оставил порядочную сумму да и высылал щедро (гонорары его были огромны), практичная Тереза с помощью Фени подыскала небольшой, в четыре комнаты, флигелек на одной из соседних с Мало-Садовой уличек и отлично устроила в нем свое пока еще несложное хозяйство.
Ее забота, ее счастье, ее мир были дети. Радуясь на них, она легко позабыла свою прежнюю жизнь. Впрочем, та, прежняя, жизнь не позабылась вовсе, нет, конечно; но она воображалась как удивительный, давным-давно, может быть, еще в юности увиденный сон. И все в той жизни было невещественно, словно подернуто серебристым туманом – и усыпанный разноцветными опилками манеж, и ослепительный свет бесчисленных ламп, и стеклярусные блестки на розовом трико…
Четкий ритм конского скока. Комья опилок, летящие из-под копыт на малиновый бархат барьера.
Аплодисменты. Поднесения цветов. Ощущение божественной легкости и красоты молодого, натренированного тела.
Но еще в той жизни – и это самое главное – были горячие, словно светящиеся глаза Анатоля, его изумительная, великолепная улыбка, ласковые руки…
Было счастье. Радостный мир. Фрёхлих… (Frӧhlich).
Сейчас ей за сорок. Это много. И хотя она еще по-девичьи стройна, походка, движения легки и упруги, а туалеты ее, как и прежде, изящны и модны, все равно, это много – сорок. В прекрасных волнах темно-каштановых волос, пусть совсем-совсем незаметная, но – серебринка. И тонкие морщинки у губ, возле глаз, на шее… «На душке», как он говаривал нежно.
Кофей вот полюбила. Как мутерхен, бывало: ах, ах, как это можно без утреннего кофею!
Привычки намекают на приближение старости.
И если б не дети…
Если б не эти очаровательные существа, в которых как бы отраженно продолжается ее молодость, она была бы несчастна. И оттого, что Анатоля в его гастрольных поездках нынче сопровождает не она, а юная Эльхен – Бель Элен, как печатается в афишах, – еще и мученья ревности терзали бы безжалостно.
Ночами особенно.
Но тут уж ничего не поделать. Ему нужна партнерша, подруга, спутница. Когда-то такой подругой, такой спутницей была она, Тереза. Однажды с необыкновенной решимостью, исполняя желание Анатоля, она сменила сверкающее трико наездницы на неуклюжий клоунский балахон. Клоунесса Акулина Дурова после знаменитой парижской Ша-Ю-Као едва ли не первой блистала на манежах европейских цирков.
О, для этого нужна была отчаянная смелость! Но ведь еще и артистический талант, не правда ли? Смазливой, ясноглазой Эльхен такое не под силу. Поэтому-то и нет в сердце места для злобы, для ревности, – бог с ней. Она, Тереза, знает лучше других, как трудно устоять перед обаянием горячих глаз Анатоля. Да и любит ли она его сейчас? То есть любит ли, как любила двадцать лет назад? Не на детях ли сосредоточена вся ее любовь?
Она старалась так думать. Но когда узнала, что в Мадриде был бой быков и Анатоль, рискуя жизнью, выступил на арене Плас-де-Торос в роли матадора, она схватилась за сердце:
– Майн гот!
И, не подхвати ее Феня, рухнула бы на пол.
Это, конечно, было безумие.
Все могло бы кончиться прескверным анекдотом: десять минут нелепого кривляния со шпагой и мулетой, и ты – на рогах кровавоглазого черного чудовища, остро пахнущего навозом кораля; чудовища, разъяренного истошными криками, свистом, мельканием красной тряпки и ядовитыми жалами бандерилий, вонзенных в кожу, качающихся на живом теле, как черные стебли тростника…
Чужое, выцветшее от яркого солнца небо.
Белый песок, заляпанный кровью.
Жалкая похоронная процессия, состоящая из плачущей, испуганной Бель Элен, двух-трех набожных циркистов и мосье Алегри, импрессарио.
Ну, и православного попа, разумеется, подстриженного, в штиблетах и полосатых брюках, вовсе на попа не похожего, единственного в Мадриде, состоящего при русском консульстве…
Настоящих матадоров хоронят многолюдно, чуть ли не с воинскими почестями; а его так вот и отволокут на неуютное каменистое кладбище, где среди мраморных нерусских ангелов и вычурных чугунных надгробий затеряется простой деревянный крест на его безымянной могиле.
Но, черт возьми, мог ли он поступить иначе?
– Нет, нет и еще раз – нет!
Там, в Мадриде, все с ума посходили: коррида! коррида! Звонкие имена торреро. Город залеплен их изображеньями: золотом расшитые куцые курточки, белоснежная кружевная пена жабо, косицы в смешных кошелечках…
Изжевав вонючую сигарету до кончика, мосье Алегри, импрессарио, уверенно сказал:
– Здесь, дорогой друг, мы с вами прогорим…
Выплюнув огрызок сигареты:
– Коррида, – пояснил. – К нам не пойдут.
Именно в эту минуту, вдруг, подобно ночной молнии, вспыхнуло озаренье.
– Пойдут! – сердито оскалился Дуров. – Да еще как пойдут-то! Никуда они, голубчики, от нас не денутся… Послушайте-ка, мосье… Готовьте афишу: русский клоун выступает на Плас-де-Торос!
Алегри сперва хмурился, насмешливо хмыкал в усы: о-ля-ля! Рассказывайте! Затем, нагнув набок лакированную брильянтином голову:
– А вы… не того? – покрутил пальцем у виска.
– Боже, какой болван! – вспыхнул Дуров. – Да у вас же, милейший, деньги под ногами валяются, остается их только подобрать!
– Эт-та карашо, – вежливо согласился импрессарио. – Теньги под ноги…
Посмеиваясь, пожимая плечами, вышел из гостиницы, подозвал извозчика и покатил в типографию заказывать афишу.
Бель Элен испуганно вскрикнула:
– Ты сходиль с ума!
Он не отвечал. С обломком старого зонтика кидался на нелепое сооружение из двух крепко связанных вместе диванных подушек. Они изображали голову быка; узкое отверстие между ними было тем заветным, убойным местом, в какое надлежало попасть острием шпаги.
– Майн гот! Что он делает!
Закусив губу, он отпрыгивал от дивана, вертелся волчком, словно уклоняясь от страшных рогов взбешенного чудища… И вдруг – але-гоп! – вонзал между подушками зонтик-шпагу.