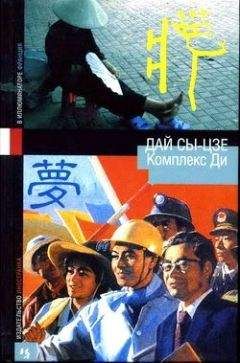— Так что же рассказать?..
— Да хоть о себе — как да что. Люди в деревне всякое говорят о тебе, а ты молчишь.
Как смело она сегодня разговорилась сама! Вот что значит рюмка водки!..
— Я думал, неинтересно тебе.
— А сегодня интересно. Давай рассказывай!
Дорога впереди мутно белела, а справа было некошеное поле люпина, и оттуда наносило прохладной травяной сыростью. Казалось, не раз уже тут хожено вместе с молчаливым Геронтием, но сегодня все почему-то было таинственнее, значительнее — и дорога, и простор темных полей, и высокие звезды. И только посмотрела туда, вверх, как прямо на глазах сорвалась звезда и с белым тихим росчерком упала. У Юли Сергеевны замерло сердце от внезапного восторга и смелости.
— Давай-давай рассказывай, — повторила она и засмеялась.
Геронтий обреченно вздохнул, опустил голову и начал:
— Как подумаю, так вроде бы и неинтересная жизнь у меня получилась, но с другой стороны… Да что говорить: с одной да с другой. Разве жизнь можно разделить на части да стороны. Никак невозможно. Иной раз подумаешь: у тебя особая жизнь, особые интересы, не как у других людей, но на самом-то деле ничего особого нет. Невежество мое или бедность — это разве такие уж особые вещи? Нет, тут хвалиться нечем. По сути дела, я еще до армии остался сиротой, мать и отец померли рано, я воспитывался у теток да дядек, а там какая учеба… Вот после армии я и заканчивал школу — шестой да седьмой класс. А потом разохотился — и вечернюю десятилетку закончил, стал, как все люди — с образованием. — Геронтий тоненько засмеялся, а потом подавил смешок, как будто чего-то вспомнил и испугался. — Ну вот, — продолжал он, — десятилетку закончил, работаю бригадиром. Год проходит, и второй, и третий. Нет, думаю, так дело не пойдет, зачем же я учился с такими трудами, зачем преодолевал? Но думай не думай, а деться некуда — застрял я в семейной жизни. Мы вместе с ней в школе учились, вместе десятилетку заканчивали. Ну что делать? Семейная жизнь в деревне известная: дом ставь, скотину заводи, сад-огород и все такое. Вот и мы так: мало-помалу зажили не хуже людей. Главное ведь что? — а чтобы не хуже людей! Большое дело — жить так, как люди!..
Геронтий опять хихикнул, но Юля Сергеевна не поняла, всерьез он или пошутил. Она настороженно посмотрела на Геронтия, но да разве в темноте что увидишь?
— Короче говоря, — продолжал Геронтий, — в тридцать два года я поступил в институт. Поверишь, я не мог ни спать, ни есть, не мог и работать толком, — в институт, и никаких гвоздей. Как затмение какое нашло. Поступить — поступил, колхознику ведь льгота, с него вроде бы спрос какой? — я без особых хлопот и поступил. Ну ладно, начал учиться, себе спуску не давал, никакими льготами не пользовался и был не последним студентом. Правда, во всем другом на студента не походил. Они, молодежь, в модных рубашках да штанах, а я в кирзовых сапогах да фуфайке. Они — на танцы да на гуляние, а я на станцию вагоны разгружать да в кочегарку, — ведь там, в деревне, двое детей у меня, надо их в первую очередь обуть-одеть. Вот таким путем и четвертый курс одолел, дело до практики дошло. Поехал я в родной колхоз, домой, куда же еще ехать человеку семейному, как не домой? И так я торопился, что не стал ждать автобусов, а на попутках, и вот среди ночи добрался в родную деревню. Весна в тот год была ранняя, дороги уже просохли, и три километра от шоссейки я почти бегом бежал. Дома, конечно, меня не ждали: ворота заперты. Но ведь мне и через забор перемахнуть — ничего не стоит. Дверь в сени тоже заперта. Но я проволочкой крючок отбросил и вошел… — Геронтий многозначительно помолчал и добавил — Войти-то вошел, да лучше бы и не входил.
— А что такое? — испугалась Юля Сергеевна.
— Да что! Место мое на кровати, оказывается, уже занято.
— Как это? — спросила она и вспыхнула, поняв всю наивность, детскость своего вопроса. И правда, Геронтий покосился на нее, и ей даже показалось, что он подумал о ней с сожалением: дева, мол, ты старая, ничего не понимаешь. Но пояснил с полной серьезностью:
— С кумом своим. Да, да, с кумом. Смешно, да?
Юля Сергеевна улыбнулась украдкой и пожала плечами.
— Я повернулся и ушел, — продолжал Геронтий с какой-то даже гордостью. — Не дрался, за ножик не хватался, этого ничего не было. Да я вообще не люблю скандалов. Только зло меня взяло: ты учишься и работаешь, как лошадь, день-деньской о доме думаешь, а она — вот что! И ведь знал ее сызмала. Нет, такой мерзости я не мог стерпеть и в чем был, в том и ушел из дому — конец, ноги моей больше там не было.
— А как же дети? — помолчав, спросила Юля Сергеевна.
— Детей жалко, да что ж делать…
— А если все забыть, простить? Ведь дети, ради них можно и забыть…
— Никогда, — строго сказал Геронтий. — Такое не может пройти бесследно, а потому еще неизвестно, как повлияет это на детей. Мое презрение к ней им передаться может, и они будут презирать мать, а это — страшное дело. Вырастут — разберутся сами.
Как у него все точно расписано, подумала Юля Сергеевна. И как все справедливо и умно, если вдуматься. Другой мужчина, оставшись один, ударяется в разгул, а этот вот уже три года в Шигалях живет, но ни в чем таком не замечен. Да и Сетнер Осипович разве стал бы держать сомнительного человека на такой должности!..
Когда пошли обратно, то Геронтий, повздыхав, осторожно заговорил о том, что была минута, когда он вовсе разуверился в возможности своего счастья и потерял всякую веру в женскую натуру.
— Но теперь… — Он взял Юлю Сергеевну за руку. — Я знаю: это возможно. Что нас удерживает? Поставим новый хороший современный дом и заживем не хуже людей, а, Сергеевна?
Юле Сергеевне приятны такие слова. Она чувствует несмелую руку Геронтия, и самые невероятные молодые, радостные мысли рождаются в ее воображении. Теперь никто, даже пьянчуга Хелип, не посмеет хамить ей!.. Но вот вошли в деревню, и когда проходили под фонарем, то Юля Сергеевна невольно отстранилась, словно боялась, что люди увидят их гуляющими под ручку. Ведь людям только дай повод — пойдут разговоры, узнает Сетнер Осипович. У калитки совсем сухо простились.
— Сыв пул, — сказала она. — До свидания.
— Сыв пул… — грустно ответил Геронтий.
Растревоженная предложением, а больше того — картинами будущей воображаемой жизни, она не могла уснуть до утра. Уже на исходе ночи взошла большая красная луна, как какое-то чудо, но тотчас стала бледнеть, тускнеть и уменьшаться — утренняя заря беспощадно настигала позднюю луну. И смотреть, как быстро тускнеет это чудо, было грустно. Но утренний свет мало-помалу успокоил Юлю Сергеевну, и она уснула.
Недаром болело сердце у Сетнера Осиповича: утром еще не успел выйти за ворота, как по улице в сторону правления пролетела черная «Волга». Райкомовская! Или кто-то из Чебоксар пожаловал? Но из Чебоксар в такую рань не приезжают. Да и для секретаря райкома рановато — в деревне только скотину выгнали, трубы еще не на каждом доме отдымили, это только один председатель приходит на работу в пять часов, а все нормальные люди спят себе, сны досматривают.
Сетнер Осипович так рано поднимается не потому, что теперь это так необходимо для дела. Нет, теперь и ему можно поспать, теперь дело налажено, дисциплина в колхозе — как на хорошем производстве, так что председателю с раннего утра не нужно оббегать все фермы да смотреть, где корма подвезены, а где. нет. Не нужно-то не нужно, это верно, да вот привычка осталась с тех времен, когда было нужно. Правда, бывает, и сейчас надо пораньше встать, обойти до разнарядки и машинный стан, и откормочные площадки, и фермы, но это не каждый день. Сегодня, например, такой нужды не было, так что Сетнер Осипович не очень и спешил: умылся, побрился, походил по своему саду-огороду, полюбовался на белые и красные георгины у крыльца, потом выпил в кухне кружку парного молока с хлебом. За этими делами он совсем забыл и о комплексе, куда ездил вчера, забыл и о Пуговкине, который не давал ему покоя всю ночь, а вот не успел за ворота выйти, как черная «Волга» пролетела: сам Пуговкин, не иначе.
И верно, это был он, Станислав Павлович Пуговкин. Как будто нарочно и приехал в такую рань, чтобы встретить председателя на крыльце правления да еще и сказать с такой торжествующей улыбочкой:
— Опередил председателя?!
— Да, опередили, — ответил Сетнер Осипович, быстро и пристально взглядывая в черные, блестящие торжеством глаза Пуговкина. Глаза эти казались особенно черны на белом, чистом и полном лице. Вообще Пуговкин весь был как будто накачан молодой здоровой энергией, и даже широким плечам словно тесно было в белой рубашке, и она готова была треснуть. И рука у него была твердая, как у плотника.
— Не спится секретарю?
— С вами вволю не поспишь, — не то пошутил, не то всерьез ответил Пуговкин. И по выражению глаз ничего нельзя было понять, и Сетнер Осипович решил: нет, не шутит.