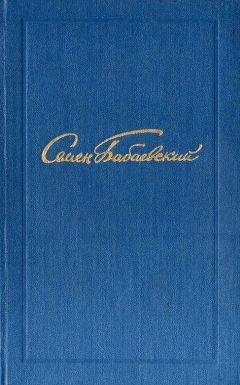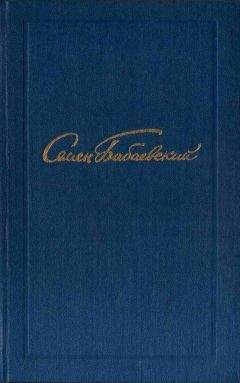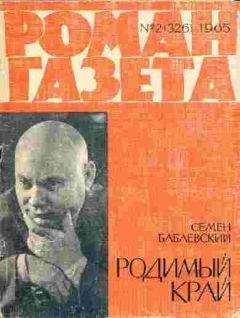— Могу предложить ночлег у Емельянова, — сказал Черноусов, когда машина подкатила к калитке; за калиткой темнел сад, а за садом виднелся дом с освещенными окнами. — У Емельянова, бывало, и Коломийцев частенько останавливался. Дом большой, с городскими удобствами, хозяева приветливые, так что тут вам будет хорошо. Кто Емельянов? Член партбюро и заведующий механическими мастерскими. По образованию инженер-механик. В Елютинскую прибыл из Москвы еще в тот год, когда в Елютинской МТС был создан политотдел, да так у нас и прижился. Живет вдвоем с женой. Недавно проводил в армию самого младшего сына.
В прихожей Щедров был представлен гостеприимным и с любопытством смотревшим на него хозяевам: полнолицему, со щеточкой седых усов пожилому Емельянову и его жене, невысокой, полной женщине. Черноусов сказал, что оставляет гостя на попечение Софьи Петровны и Андрея Павловича, а сам торопится повидать Ефименко, чтобы узнать, все ли готово к завтрашнему собранию. У калитки, прощаясь, сказал провожавшему его Емельянову:
— Андрей Павлович, прошу тебя, не утруждай Щедрова разговорами. Он сильно уморился, ему надо отдохнуть. Видишь, как он плохо выглядит. Молодой, а силенки у него, видать, маловато. Накорми ужином, и пусть ложится спать.
— Что у нас завтра? — спросил Емельянов.
— Разве Ефименко тебе ничего не говорил? Завтра собрание партактива.
Как ни старался Емельянов отмолчаться и тем самым выполнить просьбу Черноусова, а разговор начался как-то сам по себе и сразу же после ужина. Софья Петровна предложила Щедрову пройти в комнату, где для него была приготовлена постель. Щедров сказал, что немного посидит на диване, и, пригласив Емельянова присесть рядом, спросил:
— Андрей Павлович, давно ли проживаете в Елютинской?
— С весны тридцать второго.
— Наверное, уже считаете себя елютинским казаком?
— Ой, что вы, какой из него казак?! — ответила Софья Петровна, ласково глядя на Щедрова. — Мы казаки не елютинские, а московские. Родились и жили в Москве, а в Елютинской оказались потому, что мой муженек добровольно оставил завод в Москве, где начал работать после института, и увез меня сюда в станицу. Сколько же это годочков прошло? Дети родились и выросли в Елютинской. Последний сын уже служит в армии.
— Не жалеете, что уехали из Москвы?
— Поначалу жалели, особенно я, — чистосердечно призналась Софья Петровна. — В те годы жилось нам нелегко. А теперь, как видите, и свой дом с садом, и свое маленькое счастье.
— Счастье, Соня, не в доме с садом, — вставил Емельянов. — Счастье в душевном настрое.
— А что оно такое — душевный настрой? — спросил Щедров.
Емельянов промолчал.
— Андрей Павлович, почему молчите?
— Антон Иванович, может, вы устали и хотите отдохнуть?
— Нет, я совершенно не устал и спать не хочу. Но мне, Андрей Павлович, непонятно, почему вы уходите от разговора? Мне даже показалось, что вы и говорить-то со мной не желаете. А почему?
— Желать-то я желаю, да уже поздно. Пора спать.
— Посидим еще немного. Все равно сразу не уснем.
— Соня, ты ступай. Мы тут без тебя…
После ухода Софьи Петровны Щедров и Емельянов некоторое время сидели молча, точно обдумывая, как и о чем им говорить, да и нужно ли.
— Вы в отцы мне годитесь, Андрей Павлович, у вас и жизненный опыт побольше моего и взгляд на жизнь пошире. Помогите понять: в чем причина недостатков в руководстве вашего колхоза?
Щедров озабоченно смотрел на Емельянова и ждал ответа.
— Вопрос, Антон Иванович, непростой, и как на него ответить — не знаю. Но думаю, что у нас в «Кавказе» причину, о которой вы спрашиваете, следует искать к Черноусове и Ефименко.
— Черноусов и Ефименко, разумеется, небезгрешны. Но обвинять во всех тяжких грехах одних руководителей не ново.
— Так ведь в старом всегда есть что-то новое.
— Что же оно это новое?
— Новым является хотя бы то, что оба они с виду не злодеи, не бюрократы, не душители критики. С людьми обходительные, вежливые. Они и поборники коллективного руководства, и завзятые демократы, и всегда неразлучны. Но заметьте: до Черноусова у нас были бригадиры и заведующие фермами люди толковые, с хозяйственной смекалкой. Были — и уже нет. И не стало их потому, что они не поддакивали Черноусову, не смотрели ему в рот и не ждали, что он скажет. Он их не снимал с работы, а постепенно, под всякого рода предлогами заменял.
— А что же партбюро?
— Так и в нем произошли перемены. Секретарем у нас был тогда Нестеров, молодой, растущий. Его послали на учебу. Тут-то Черноусов и заприметил ветеринара Ефименко. Поехал к Коломийцеву, расхвалил Ефименко, сказал, что лучшего секретаря партбюро и желать не надо. После этого в «Кавказе» воцарилось неписаное правило: ни правление, ни партбюро ничего без Черноусова не решало. Между Черноусовым и Ефименко установились отношения мало сказать приятельские.
— Неужели не нашлось смелых коммунистов?
— Как не нашлось! Находились. Иной раз споры у нас доходили до хрипоты. Решили мы поехать с жалобой к Коломийцеву — я и еще два товарища. Коломийцев выслушал нас молча, усмехнулся и сказал, что Черноусов и Ефименко без шума и треска дело делают, а мы занимаемся болтовней. Пристыдил нас, назвал оппозиционерами. С тем мы и уехали.
— И вы сложили руки?
— Нет, рук не сложили, да только опять у нас ничего не вышло. Написали мы в крайком. Но оттуда наша жалоба была переслана Коломийцеву.
— И что же?
Емельянов тяжело вздохнул, откинулся на спинку дивана и не ответил.
— Не хочется вспоминать, — сказал он с тоской в голосе. — Коломийцева уже нет, а Черноусов и Ефименко, как видите, все еще пребывают на своих постах.
— Хорошо бы на собрании поговорить вот так же откровенно, как сейчас мы с вами.
— Антон Иванович, все будет зависеть от вашего запева, — сказал Емельянов. — Понравится запев — заговорят, не понравится — промолчат. Многие нынче живут по принципу: моя хата с краю… Утратилась активность.
— Что нужно, чтобы ее вернуть?
— Во-первых, ответственность. Это главное. Ее, ответственность, следует спрашивать с каждого. Во-вторых, надо разлучить Черноусова и Ефименко. Рядом с Черноусовым должен стоять не Ефименко. — Емельянов спохватился. — А мы засиделись! Пора, пора, Антон Иванович, на отдых! Вот ваша комната, прошу.
Поздно ночью, оставшись один, Щедров спать не лег. Уселся к столу, раскрыл свою тетрадь и задумался. Смотрел на стоявший за окном фонарный столб, на косо падавшие блики света и думал о Емельянове. Даже слышал голос: «Все будет зависеть от вашего запева. Понравится запев — заговорят, не понравится — промолчат…»
Ветер толкнул ставню, и она глухо ударилась о стену. На столбе закачался фонарь. Где-то совсем близко, будто за окном, вразлад заголосили петухи. «Значит, дело в моем запеве, — думал Щедров, глядя на качающиеся за окном тени. — Каким он должен быть? Спокойным. А что, если подведут нервы? Буду говорить о том, о чем обязан сказать. И так, как умею. А что, если начать не с елютинского «Кавказа», а с вишняковского «Эльбруса»? Сперва сошлюсь на положительный пример, а потом…»
Он раскрыл тетрадь и начал просматривать записи, сделанные во время поездки. «Старо-Каланчевская, — читал он. — Хата Лукьянова Дмитрия Степановича. Неполученные деньги. Пассивность. Почему? Выяснить и принять меры». Эта краткая, одному ему понятная запись вмиг вернула Щедрова в Старо-Каланчевскую. Вот он вышел из машины и сказал Крахмалеву, что хочет побывать в каком-либо доме, просто так, чтобы посмотреть, как живут колхозники в «Октябре».
«Как живут? — с улыбкой переспросил Крахмалев. — По-разному, без уравниловки: одни побогаче, другие победнее. Антон Иванович, вам как? Подобрать дом побогаче?»
«Войдем вот в эту хату, что под шифером. Кто там живет?»
«Кажись, Лукьянов. Точно, он самый. Только Лукьянов нетипичный».
«Почему же нетипичный?»
«И сам он и его супруга — рядовые, сказать, не животноводы, не механизаторы».
«Где и кем они работают?»
«В огородной. Он на поливе, очищает водостоки от ила, а она выращивает овощи».
«Хорошо работают?»
«Ничего, бригадир не жалуется».
Их встретили хозяева — Дмитрий Степанович и его жена Варвара Семеновна. Провели в хату. Две комнаты, обе чистенькие. В первой, с печью и плитой, стояла кадка с водой, вдоль стены вытянулась лавка, широкая, из толстой, хорошо оструганной доски, и круглый стол. Во второй комнате — железная кровать, покрытая стеганым одеялом, две табуретки, диван с раздавленным сиденьем и потертой спинкой.
Лукьянов, мужчина жилистый, высокий, лет под шестьдесят, и его рослая, с натруженными руками жена, видимо, были не рады нежданным гостям и смотрели на них непонимающими, чего-то ждущими глазами. Понимая смущение хозяев, Крахмалев сказал, что и он, как председатель, и новый секретарь райкома зашли, чтобы познакомиться и побеседовать. После этого хозяева заулыбались и несколько повеселели. Варвара Семеновна вытерла тряпкой деревянную чистую лавку и пригласила сесть.