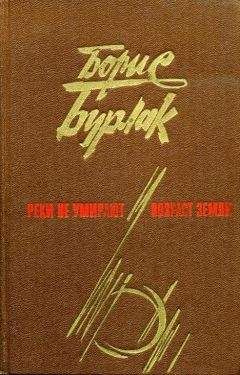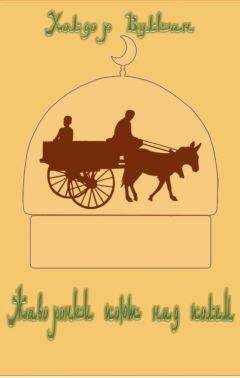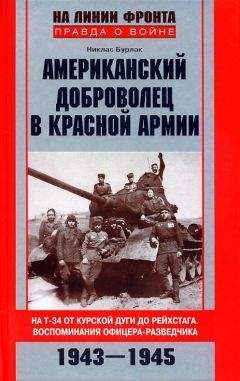Она пошла к выходу через новую часть кладбища, где памятников было меньше и оттого казалось просторнее. На западе, за Москва-рекой, светилось вполнакала занавешенное дымкой солнце. Было совсем безветренно. Воздух искрился от мелких снежинок-блесток, которые подолгу не опускались на землю. С большого портрета, установленного на ближнем холмике, на Павлу глянул что-то очень уж знакомый, широколицый мужчина. Она приостановилась от внезапности встречи. Да это же Марк Бернес... Он улыбался весело, утаивая печаль в глазах. Павла постояла несколько минут, осматривая его последнее пристанище. Выйдя за ворота, она услышала на редкость грустную, щемящую музыку. Осмотрелась. Поодаль стоял туристский автобус, и музыка доносилась, конечно, оттуда.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Невероятное было в том, что человека нет в живых, а его знакомый, глуховатый голос продолжал звучать и останавливать людей.
И еще невероятнее было то, что эта песня оказалась лебединой для самого певца.
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане, на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Павла стояла до конца и, очнувшись, медленно побрела дальше, к станции метро. Она уже слышала это по радио, но не обратила тогда внимания. А сейчас новая песня о журавлях поразила ее такой живой, осязаемой реальностью, что Павла часто взглядывала вверх, словно отыскивая длинные косяки улетающих птиц, хотя над городом провисало зимнее тяжелое небо... Особенно тронула ее мелодия, передающая грусть во всех трех измерениях: то как очень мягкую, раздумчивую, то суровую в этом мудром, философском отношении к смерти, то необыкновенно пронзительную, до боли в сердце. Музыка всегда обнажает глубину слова. Иной раз можно пройти мимо и самых точных слов, но, положенные на музыку, они непременно остановят тебя и заставят думать, думать. Жаль только, что действие музыки кратковременно, как действие сильного лекарства, а литература исцеляет душу постепенно, исподволь, но зато надолго...
Павла вернулась домой, когда стемнело. (Ольги Николаевны дома не было, она с утра уехала на выходной день к сестре, в подмосковное местечко Кратово.)
— Где пропадала-то? — поинтересовался Прокофий Нилыч.
— Ходила на кладбище.
— Я так и думал.
— Не была у н е е с весны прошлого года.
— Я тоже с осени не проведывал е е. Что там?
— Что там может быть, кроме тишины и ясности?
— Н о в о с е л о в, наверное, прибавилось.
— Прибавилось...
И она рассказала отцу о в с т р е ч е с Бернесом. Прокофий Нилыч слушал молча, думая не о мертвых, а о судьбе дочери.
Теперь, в вечернюю пору собственной жизни, неустроенность Павлы начинала беспокоить Прокофия Нилыча все больше. Павла из тех женщин, которые не умеют искать счастье. Такие только ждут. У таких лучшие годы проходят в ожидании перемены к лучшему.
И это вовсе не от равнодушия, не от пассивного отношения к уходящему времени. Это от цельности натуры, не способной ни на какие компромиссы. Но сколько может продолжаться ее одиночество? И он прямо спросил сейчас:
— А как у тебя с Георгием?
Она поморщилась от его вопроса, который был совсем некстати.
— Ну что я могу сказать тебе, отец?
— Полагаю, ты для него не просто давняя знакомая.
— Ах отец, отец, согласись, это все очень сложно. У него дочь на выданье. Ну, да ты сам женился на Ольге Николаевне, когда я была уже не школьницей...
— Надо бы вам быть попроще, милая Павлуша. Учитесь житейской мудрости у простых людей. И не считайте, что вы тоньше их чувствуете, глубже переживаете.
— Я согласна с тобой. Однако...
— Хорошо, хорошо, не буду больше.
Он обнял ее, как прежде, и виновато приласкал за двоих — за себя и за мать.
Павлу тронула его прихлынувшая издалека нежность.
— Ты не обиделся?
— За что, Павлуша?
— За мой тон. Это у меня что-то сохранилось от той полудетской ревности, когда ты привел в дом Ольгу Николаевну. Не сердись. В каждой женщине до конца живет несмышленая девчонка.
Прокофий Нилыч качнул головой и вышел на звонок в переднюю: пожаловала сама хозяйка.
Ольга Николаевна, полная, крупная, еще не утратившая крестьянской, спокойной красоты, была старше Павлы всего на девять лет, но относилась к ней с подчеркнутым, хотя и добрым, старшинством. За обедом она потребовала от падчерицы полного отчета, как та провела выходной день в столице. Пришлось снова рассказывать по порядку. Но о кладбище Павла лишь упомянула мимоходом: к чему знать мачехе все подробности. Отец покосился на нее, промолчал. К такому «заговору чувств» они с отцом давно привыкли, отлично понимая друг друга. Кажется, Ольга Николаевна догадывалась, что они не обо всем говорят с ней, но смотрела на это трезво.
Вечером Павла никуда не пошла, хотя с утра собиралась в театр на Таганке. Закрылась в своей «девичьей» комнате, сказав, что совсем отвыкла от Москвы и устала за день так, что ног не чувствует. Она лежала на раскладном диванчике-кровати, чутко прислушиваясь к себе. В ушах все еще звучало:
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Вспоминала мать. Думала об отце. Каким он был сегодня непривычно сентиментальным. Человеку дано жить прошлым, настоящим и будущим одновременно. Без этого было бы невозможно противостоять невзгодам. Именно когда тебе бывает очень худо, вступает в действие двусторонняя связь времени — и ты ищешь какую-нибудь опору в прошлом, а если не найдешь ее среди минувших лет, то уж, конечно, обнаружишь ее в будущем. В конце концов твое настоящее действительно только мост, переброшенный с берега прошлого на берег будущего; и, может, главную часть жизни ты проходишь по длинному мосту, все набавляя шаг, чтобы поскорей ступить на земную твердь сбывающейся надежды... К чему это ты? — спросила себя Павла. Просто-напросто тебе недостает немножко счастья. Отец прав: надо учиться у тех людей, о которых сама же пишешь. Например, у Настасьи Сольцевой. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет... И поменьше копайся ты в своей душе. Эх, Павла, Павла, бить тебя некому за всякую интеллигентщину...
«Небо здесь изумительно ясное».
«Море здесь поразительной чистоты»...
Когда Георгий Каменицкий собирался на Кубу, он перечитал о ней все, что оказалось под рукой, но особенно запомнились ему эти две фразы из словаря Брокгауза и Ефрона: лучше и не скажешь об антильской стороне. Он часто повторял их, прогуливаясь в свободное время по гаванской набережной Малекон. Будто и не принято в словарях пользоваться высоким слогом, но даже вроде бы сухие энциклопедисты ударились в поэзию, как только речь зашла о Кубе.
И сегодня, получив, наконец, письмо от своей переводчицы Ольги Ревильи, он достал ее карточку из стола и задумался надолго... Был ли он вообще когда-нибудь за океаном? Не сон ли это? Не придумал ли он все эти далекие картины, нереальность которых с течением времени становится почти бесспорной? Прошел год с тех пор, как он вернулся на Урал, а кажется, целая вечность. Да, сколько бы ты ни странствовал по белу свету, но стоит лишь вернуться в те края, где отшумела твоя молодость, как время тут же и смыкается, словно никуда не уезжал. И остаются лишь отрывочные воспоминания, прореженные с годами так, что и в самом деле начинают походить на сон, который, сколько ни старайся, никогда не восстановишь полностью от начала до конца. Впрочем, память — мозаика прошлого: она состоит из одних деталей, искусно подобранных среди минувших разноцветных дней.
Дальние путешествия обычно связаны со всякого рода перепадами. Для Георгия они были тем паче резкими: он летел в тропики из Заполярья (с короткой остановкой в Москве для оформления документов). Когда он поднимался в самолет в Норильске, там мела ранняя поземка по всему Таймырскому полуострову; а когда вышел из самолета в Гаване, антильский жар обдал его с головы до ног. Окрест звучала огневая пачанга гитаристов, которые встречали по традиции гостей из-за океана. Он стоял и смущенно переминался с ноги на ногу, пока не подошли к нему товарищи из советского посольства. Крепко обнялись, хотя раньше не видели друг друга.
— Знакомьтесь, пожалуйста, — сказал один из земляков. — Отныне это ваша переводчица Ольга Ревилья.
Он поклонился очень стройной молодой женщине. Она подала ему руку и улыбнулась доверчиво.
— Ольгита, — сказала она по-свойски.