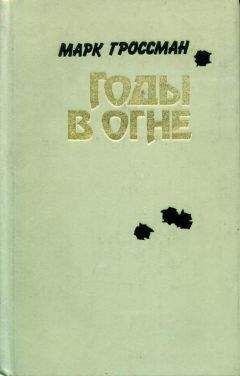Он искусственно расхохотался.
— Почему вы не спросите, какое это имеет отношение к прелестному полу человеков? Позвольте уведомить: самые свирепые воины былого — бабы. Случалось, они выжигали или срезали себе правую грудь, чтобы не мешала стрелять из лука… Как видите, это совсем не тот лук, какой кладут в суп!
В продолжение всего разговора Крепс добавлял себе в стакан и вскоре уже налился, хоть выжми. Он даже не замечал, как с ожесточением вонзают в него взгляды Гримилов, Вельчинский, Эмма Граббе.
Выбрав момент, к штабс-капитану подошел его шеф и проворчал тоном приказа:
— Ах, какой вы бон вива́н[69], Иван Иванович! Вот уж не знал!
Крепс иронически хмыкнул, отозвался почти бессмысленно:
— Шерше ля фамм![70]
Павел Прокопьевич был тоже весьма хмелен, вдруг обиделся, бог знает на что, может, решил: Иван Иванович не верит в ловушку, приготовленную красным, о чем давеча шел разговор. Капитан побагровел, погрозил пальцем штабс-капитану, сказал:
— Не суйтесь в волки с собачьим хвостом, милостивый государь!
Впрочем, он тут же забыл о Крепсе или сделал вид, что забыл, и повернулся к Урусовой.
— Позвольте поздравить вас с наградой Верховного. Надеюсь, по этому поводу вас можно поцеловать?
— Я не заслужила медаль. Это, право, ошибка.
Гримилов, против ожидания, не стал спорить.
— Не заслужили — заслужите. У вас есть все возможности отличиться. И я надеюсь…
Крепс пытался перебить Гримилова:
— Дело, что осел, уважаемый, — его палкой погонять надо.
— Здесь говорят о женщине, — строго поправил его Павел Прокопьевич.
— Именно. Да-с… Женщины хороши, когда их нет. И не перебивайте меня!
Гримилов державно скрестил руки на груди и сказал своим игрушечным басом, сейчас совсем хриплым:
— Господин штабс-капитан, вы воспитаны, как необузданный осел!
Мешая ссоре, княжна посоветовала, улыбаясь:
— Нам всем, кажется, пора отдохнуть, Павел Прокопьевич.
— Разумеется, — склонил голову начальник отделения, — но я должен сказать вам со всей возможной откровенностью: одинокое дерево — это вороний насест. Именно так!
И капитану почудилось, что он связал такую частую сеть, из какой эта девчонка не выберется.
— Именно так! — еще раз крикнул Павел Прокопьевич столь громко, что его услышали, пожалуй, все.
Видя разгоряченные лица офицеров, к ним поспешили госпожи Гримилова и Граббе, у которых совершенно истощилось терпение быть на отшибе.
Тотчас Марья Степановна, что-то наговаривая в уши Павлу Прокопьевичу, потащила его в приемную, накинула на мужа фуражку, повлекла в коридор.
Граббе иронически посмотрела на Крепса, который совершенно не замечал ее присутствия на вечере, затем дернула за рукав Чубатого и показала глазами на выход.
Вскоре они очутились во мгле теплой сиреневой зари, Эмма обняла Иеремию, хмельно тыкалась ему губами в шею, корила:
— На княжну льстишься, Чубатый… Ползком в люди норовишь выбраться!
— Не ляпай языком! — сердился офицер. — Хто тоби таку дурницю в голову вкинув?
— Вижу, — темно грозилась Граббе. — Я за ней присматриваю.
И добавляла с легко ощутимой желчью:
— Гляди, она сама своим подолом огонь раздует. Не на кого тогда пенять.
Чубатый махнул рукой.
— Эка ты дурна! Вона князя дочка. А я хто?
Эмма настаивала:
— Темная она, твоя княжна. Я приглядываю.
— Це бабське дило, — механически отозвался Иеремия.
Но тут же стал колом, повернулся к Эмме, сказал раздраженно:
— Ты баба сучого выводу!.. Не мороч мени головы!
— Защищаешь!.. — зашипела Эмма. — Себе бережешь.
— Не для пса ковбаса… — устало проворчал Иеремия. — Ну, пишли.
Эмма внезапно обмякла, повисла на шее Чубатого, зашептала:
— Пойдем, погуляем… выпьем еще…
— А як же… — усмехнулся офицер. — Кобы мени зранку горилочки в збанку.
Чубатый, разумеется, не любил и не мог любить Граббе, но ему нравилось ее происхождение и связи со свитой Николая II, пусть косвенно лишь, через дядю. Иеремия происходил из среднего крестьянства, офицерские погоны стоили ему великого труда и храбрости на линиях боя. И, добившись, как он полагал, кое-чего в жизни, деникинец люто не любил голытьбу, нищебродье, никчемных людей, бездумно гнущих горб ради хлеба.
Князья и графы всегда были для него недостижимой мечтой, сладкой сказкой, если это даже случались высокопоставленные содержанки и дураки.
Граббе теперь уже стала потаскухой, даже ловкой потаскухой: с успехом торговала постелью, не забывая при этом, что она из Питера и дама полусвета. Иеремия, достаточно хорошо зная прошлое Эммы, полагал, что не терпит никакого ущерба и «не все так робиться, як у параграфи написано».
Впрочем, не желая забивать себе голову столь сложными материями, Чубатый забормотал под нос слова какой-то песенки:
У сусида хата била,
У сусида жинка мила…
Граббе косилась на сожителя и вздыхала.
А тем временем в подвальных комнатах штаба сам собой источался и таял банкет, эта странная недружелюбная попойка людей, которым предстояло скорое бегство на восток.
Крепс, почти задремавший на своем стуле, вдруг поднял голову, махнул рукой и заявил, что пойдет теперь же спать в подвал, к арестантам; они его сами просили об этом, поскольку красные обожают Крепса и не хотят спать без него — такая у них блажь.
И он хохотал и подмаргивал неведомо кому, чтоб все понимали, какой он нынче устроит сон этим большевикам и совдеповцам.
Штабс-капитан решительно направился к двери, но вдруг счел, что его не все поняли, как надо, и стал объяснять окружающим, что красные — это волки, а волков без клыков не бывает, и крамольные мысли надо отсекать вместе с головой, а также доказывал: мертвые не укусят, и с кладбища никого не приносят назад.
Кое-как добравшись до точки, Иван Иванович покинул банкет. В подвал его повел фельдфебель охраны, вполне знавший, что там будет твориться всю ночь.
Вслед за Гримиловым, Чубатым и Крепсом ушли к себе на Исетскую, в дом Шапошникова, контрразведчики корпуса и филеры, настороженные и трезвые, как гимназистки. Пример подал демобилизованный солдат Соколов, еще не забывший субординации. Они прошли мимо Урусовой, делая вид, что совершенно не замечают ее.
Когда за ними закрылась дверь, Вельчинский спросил Юлию Борисовну:
— Ну-с? Каковы?
— Стоят друг друга. Но, мне показалось, Образцов — больше других шельма. Этот и из петли выдернется.
— Вы совершенно правы: смышлен, как собака. Однако грядут тяжелые времена[71].
Как только поручик и княжна остались одни, Николай Николаевич воспрянул духом. Он с обожанием смотрел на Юлию Борисовну и беспричинно улыбался.
— Что это за намеки на мифическую удавку для красных? — полюбопытствовала княжна. — Впрочем, откуда же вам знать?
Николай Николаевич снисходительно улыбнулся.
— Знаю. Немного, но знаю. Адмирал впускает Тухачевского в Челябинск и душит его здесь в мешке.
Но тут же оробел, что выболтал служебную тайну, и сказал первое, что пришло в голову:
— У меня огромная покорная просьба. Я несчастен, как камень на мостовой.
Юлия Борисовна вопросительно взглянула на поручика.
— Доклад… — забормотал Вельчинский. — Весьма существенный доклад… Не могу вручить начальству.
Княжна, похоже, рассердилась.
— Ну, что вы, право, мелете. Говорите яснее.
— Прошу об одолжении, Юлия Борисовна.
— Я уже слышала. Но о чем все же?
— Госпожа Крымова недовольна мной, и я не хотел бы ее тревожить. Мне надо срочно перебелить доклад.
— Насколько я знаю, машинопись — обязанность Верочки.
— Да, конечно. Но совершенно секретные бумаги печатал фельдфебель Мосеев. Однако он оказался дурак, и послан на фронт. Замены пока нет.
Николай Николаевич вздохнул.
— Я обращался к господам Гримилову и Крепсу, но оба отвечали: не беспокойте пустяками. Вся надежда на вас.
Княжна неопределенно пожала плечами.
— Ну, вот еще, право. Стану я тащить чужой воз!
— Что же делать? — повесил голову поручик. — Штабс-капитан снова станет адресовать мне свои плоские шутки. Вам не жаль меня?
— Жаль. А где достать десять рук? И как отдохну после работы?
Вельчинский несколько секунд молчал и внезапно заговорил с воодушевлением:
— Я придумал, голубушка Юлия! Вы станете печатать под мою диктовку.
— Когда же?
— Гм-м… да… конечно… Только в свободное время.
— Вы совсем меня не жалеете, господин поручик. Я ничего не обещаю. Не хочу говорить сейчас о деле.
— Разумеется, потом, не теперь же… Значит, могу надеяться?