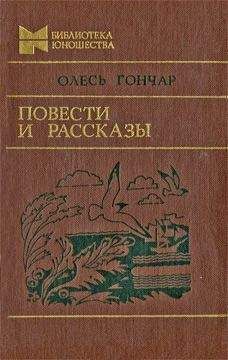— И прививаем! — воскликнул начальник режима. — Пусть даже и кричит и отбивается, ведь он еще не смыслит, что ему добро прививают… Берем же сюда самых запущенных, тех, что уже прошли «крым и рим», — иной и взрослый не видел того, что оно успело пережить. У того батько пьяница топором мать зарубил, другого заставляли идти воровать, а иной только на ноги встал, от дома отбился, бродяжничать пошел…
— И откуда у них эта страсть к бродяжничеству?
— А откуда к бессмысленному разрушению? Ты сделал, ты эти фонари на улице поставил, зажег, а я их вдребезги разобью, потому что мне так хочется. Работать меня не заставишь, зато в автобус я вскакиваю первым, захватываю место у окна, потому что моей особе там сидеть приятнее, она хочет ветерком обвеваться, а вы грубые, черствые, раз требуете, чтобы я встал, уступил место старшему… Говорим все о пережитках, а оно и нажитки наши ничем не лучше… Сколько теперь их таких, которым уважать старших кажется просто унизительным, это вроде бы гордость его умаляет… Даже в добропорядочной семье порой хлопец становится вдруг бездушным вымогателем, шкурником без совести и чести. А родителям? Нет ведь более тяжкого наказания, чем наказание детьми! Жестокими, неблагодарными… Еще на свете не жил, а уже набрался откуда-то диких понятий, хамства, нахальства, а нам все это надо выдавить из них, как тот писатель, что по капле выдавливал из себя раба. Только он сам из себя, а эти еще сами не умеют, мы должны им помочь. Никому ведь не безразлично, какими они вырастут, эти потомки, эти, что должны будут завтра нас заменить… Глядишь на него и думаешь: кем же ты станешь? Бурьяном, шкурником бессовестным или человеком, каким гордиться будет народ?
Антон Герасимович распалялся все больше, и посетительнице по душе был этот его искренний огонь гнева, боли и возмущения, обращался к ней уже не просто один из здешних часовых, страж порядка, а опытный педагог, который многое наблюдал в жизни и близко принимает к сердцу судьбу этих «трудных» детей, попавших за ограду. Женщина уже слышала от него мудреные слова об агрессивности натуры подростка и дисгармонии поведения, о том, как бережно следует прикасаться к бутону еще не рацветшей детской души… Наверное бы, застыл в изумлении педагогический совет, если бы услышал, какими терминами сейчас оперирует вечный их оппонент Антон Герасимович…
— Бывает, разводят дискуссии, чем лучше воспитывать: любовью или страхом? — продолжал Антон Герасимович. — Как будто не ясно, что надо и тем и другим… Заплачет любая педагогика, если только по головке будем гладить или, наоборот, когда один ремень над мальчишкой будет свистеть… Ведь он тогда скрытным становится, лживым, таится, причины его настроения для нас уже неизвестны… Крик, слезы, ярость, убегает куда глаза глядят, а мы и не догадываемся, почему все это, что с ним творится. А его, может, кто-то обидел, может, мама его замуж во второй или в третий раз выходит, и он страдает от этого, ревнует, в этом возрасте детская ревность опасна, она способна на все…
«А ведь я его, как доведет, тоже пугаю, что замуж выйду, уеду куда-нибудь», — с раскаяньем подумала Оксана и опять с надеждой и почтением смотрела на Антона Герасимовича: этот человек, казалось ей, может дать относительно сына настоящий совет. Наверное, он насквозь видит своих подопечных, читает, как раскрытую книгу, их детские правонарушительские души. С виду простой, даже грубоватый, не сразу угадаешь в нем вон какого ученого человека! По ее мнению, он мог бы быть и доктором наук. Не зря же и книга перед ним такая серьезная, в коже… Нисколечко сейчас не жалела Оксана, что отдала любимого сына на воспитание этим опытным, терпеливым и требовательным людям.
— У вас, наверное, тоже дети есть? — спросила.
— У меня и внуки, — улыбнулся с гордостью Тритузный. — Уже трижды дед… Так, знаете, быстро все промелькнуло. Жизнь, она ведь не стоит на одной ноге, мчится и мчится вперед, как поезд пассажирский: одних высадит, других наберет, и дальше, дальше… Мало кто и заметит, кого оставили на этом полустанке, а кто новый сел… Еще словно вчера был молодым, за девчатами приударивал… Хоть и бедные были, а все же веселые, певучие, выходим, бывало, вечером в плавни, на лодках катаемся, купальские костры разводим… До поздней ночи песни да гомон… А теперь уже и плавней тех нет, и русалок всех речные ракеты распугали, не качаются на вербах по ночам…
Говорил это Антон Герасимович с настроением, почему-то ему хотелось предстать в глазах посетительницы человеком, которому не чужда поэтичность души и думы которого простираются далеко за эти каменные стены.
— А я же ваши плавни сама корчевала, — грустно улыбнулась женщина. — Может, именно те, где ваша молодость с песнями ходила при луне…
Антон Герасимович задумчиво смотрел на телефонный аппарат.
— Есть люди, — сказал наконец, — которые мало чем интересуются, я их мелкодухами, а то и совсем пустодухами назвал бы. Одним днем живет, как та утка: ряски нахватала, зоб набила и довольна собой… Встречаются такие и среди нас: сытый, пол-литра на столе, а в углу телевизор с футболом, можно весь вечер сидьмя сидеть к нему прикованным. Тупеет и сам того не замечает… Вот мы бы не хотели, чтобы наши питомцы такими вырастали. Человеку мало утиного счастья!
Голос Тритузного звучал громко, приподнято, таким и застала начальника режима Марыся Павловна, внезапно влетев в проходную, чем-то возбужденная, взволнованная, опаленная солнцем полевым. Где-то была, куда-то ездила, одета празднично, в мини-юбочке, хотя такая вольность и противоречит школьным правилам… Она, видно, вся там, на своей «Бригантине», которой сейчас только и живет. Приветливо перекинулась с посетительницей словом, Порфира, мол, вы теперь не узнаете, и после этого сразу к Антону Герасимовичу со своей радостью:
— На аэродроме была! Ездила с Ганной Остаповной сына ее встречать!.. А самолет задержался, в Прибалтике гроза не выпускала…
Глаза ее искрились, блестели, и голос звучал необычно, как бывает тогда, когда человека переполняет чувство затаенной радости, чувство большое, неудержимое…
«Не свое ли счастье встречала? — с грустью смотрела на нее Оксана, которая в присутствии учительницы сразу как бы пригасла, как бы слиняла перед ее яркой молодостью. — Что-то случилось, это же видно по ней, хотя она, может, и сама еще не разгадала своего чувства… А оно есть, от него и красива… Почему любовь всегда красива? Почему злоба всегда уродлива?»
Марыся, решительно отодвинув телефон, присела на край стола и оживленно стала болтать с Антоном Герасимовичем. Яська, сына Ганны Остаповны (Ясько — имя какое чудесное!), она уже пригласила выступить у костра на открытии летнего лагеря, пусть о той своей конвенции расскажет, о штормах и айсбергах, такое юным бригантинцам только подавай, они будут в восторге!.. Впечатлениями пусть поделится, он ведь бывал в портах многих стран!.. Возбужденно звенел, переливался щебет молодого счастья, а посетительница, опустив голову, сидела притихшая с букетом васильков, и если бы Марыся могла читать ее мысли, наверное, прочитала бы: «Из всех стран самая прекрасная страна — Юность… Но кто отплыл от ее солнечных берегов, тому назад нет возврата. Нет таких кораблей, нет таких бригантин, чтобы туда повернули… Разве что песня иногда занесет человека в тот край на своих нестареющих крыльях…»
С грустной улыбкой протянула васильки Марысе:
— Это вам… За то, что заботитесь о моем сорванце… Может, он уже культурнее стал? Расскажите, какой он сейчас? — допытывалась мать с надеждой.
Марысе, видимо, нелегко было на это ответить. В последнее время разным видела она хлопца: и весело-озорным, и до слепоты озлобленным, грубым, а сейчас чаще всего видит… задумчивым. Иногда ее даже тревога берет: о чем он? Почему лоб хмурит? Просто посерьезнел? Ведь у него как раз тот период, когда ребенок начинает обобщать явления, старается улавливать какие-то прежде недоступные ему закономерности жизни… А может, есть другие причины этой его задумчивости… Некоторые из учителей считают, что в этом кризисном переходном возрасте нельзя давать им задумываться, поскольку мысль подростка непременно, мол, шугает в сторону, в пороки, в грехи!.. Ведь такое их почему-то особенно привлекает, вызывает нездоровое любопытство… Правда, теперь мальчик немного притих, от мысли о побеге, кажется, отказался, смирился с судьбой. Воспитательницу такое смирение даже беспокоит: не надломилось ли в нем что-то, не перестарались ли в дружном педагогическом натиске на детскую его волю и психику, не стал ли притупляться в нем инстинкт свободы или — как там его назвать? О своих сомнениях Марыся, однако, не стала распространяться перед матерью, напротив, успокаивала ее: Порфир выравнивается, особенно по труду, тут он прямо виртуоз!
— Впрочем, трудовые навыки для нас — это еще не все, — говорит Марыся Павловна. — Наша цель, чтобы сын ваш возвратился к вам внутренне обновленным человеком, чтобы не глухим был к матери, не бессердечным… Мы верим, что он за все оценит вас, проникнется, а может, и уже проникся чувством сыновней преданности, чувством гордости за маму… А будут чувства эти глубокими, явится и желание честно жить, пробудится и способность идти на подвиг…