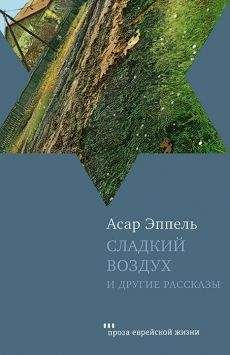Тут он достает перфорированную дольку пустой каймы марочного листа (они в клапане записной книжки, выпрошенные на почте околомарочные эти полоски), потом говорит: «Открой на „бэ“!», потом слюнявит полоску языком и притирает элегантным пальцем в мою записную книжку.
— Вот мы имеем телефон и когда звонить!
На вспухшей от слюнной влаги страничке приклеено:
«Матвей Аркадьевич. Пианист-аккордеонист. Звонить от и до. Спросить Матвея Аркадьевича, музыканта».
С туннельным грохотом приволокся приземистый поезд.
— Накрути мне! Любой репертуар! Как тогда!
За съехавшимися дверями взбудораженные глаза с наливной чернотой. «Не веришь? Но я сказал правду… Ну хорошо… Ну прибавил…»
Взгляд — как тогда. Он — как тогда. Но тут метро. Хотя и снова станция нашей с ним жизни.
А там всегда была свалка. Причем весенняя и необходимая мне снова. Там — двое смешных чудаков, не чаявших от нее избавиться.
Отчиститься и отмыться.
Он — побриться. Я уже — тоже. Но при чем тут побриться, если не следовало во что бы то ни стало уходить с нее, а следовало не угодить на другую — пожизненную? Мы же, умнейшие из людей, мы, дурачье, отвлеклись на мелочи, на задворочное суемудрие, на глубокомыслие напраслины ради.
И ошиблись в главном.
Обретя пару заносчивых прозрений, остальное всё потеряли: весну потеряли, распутицу несусветную, бесстыжую раскисшую землю и голубое надо всем блюдечное небо.
Утратили единственную и однократную в жизни отправную точку повелительную эту свалку, изживавшую нас, понуждавшую куда-то устремляться, как-то действовать, не засиживаться, но так и не намекнувшую: мол, по той вон тропинке и давайте!
Огромная и всхолмленная, изобильная такой непролазной грязью, таким множеством небес в лужах, такими отблесками солнца в растекшейся блистающей глине, таким вороньем, такими галками и прогалинками, такими уже кочками, которым вскоре высохнуть и стать убитой почвой лета, а сейчас они пока сыроваты, хотя на кое-каких можно уже и стоять.
И вот появляется на таковой молодой кочке Шампиньон Его Жизни, а на противулежащей — Шампиньон Моей, а свалочные косогоры — вдобавок к солнцу в лужах — сверкают несметным битым стеклом, так что солнца и его подобий (а это — высочайшая степень восхвалительных уподоблений!) — целые мириады, и каждая стекляшка получается Падишах, и каждая лужица — Людовик Солнце, и водомоина — Рамзес, и стоят друг против друга оба два — мы с ним, а свалочные взгорья, даже если где и не сияют дробленым светилом, — необычны и необычайны. Сейчас таких нету. Там не было зловония, мутной полиэтиленовой плевы, алюминиевой перхоти, железин в ржавой сукровице. Ничего скользкого и склизкого. Все свозимое быстро бурело, правильно засорялось почвой, приобретало землистость и тихонько пованивало.
Видом и вкусом свалочное вещество напоминало макароны по-флотски, хотя тропинки сразу становились земляными, влажными и равномерно гнедыми. Еще можно сказать, что свалка пахла нищим стариком, но запах, как все нищие, по сторонам не пускала, а держала при себе, и окрестность наша за мусорным рубежом дышала воздухом без цвета, запаха и вкуса.
И вот мы на кочках друг против друга в щегольской своей одеже. Я возвращаюсь, он — отлучается. На мне — кепка-восьмиклинка, на нем тушинский аэродром. На мне — френч командира Красной Армии, но редчайшего образца (все говорят: трофейный, хотя он советский, командирский, и однажды один знаток радостно подтвердил: «Это же форма ношения, которая была с такого-то по такое-то!»). На нем — двубортный нездешний пиджак, а двубортные у нас не носят. Рубашки на нем и на мне сшиты по блату из крученого трикотажа на Колхозной площади. Они цветные, что по тем временам дерзновенней, чем, скажем, сейчас хождение милиции в муфтах и вуали. Все уже забыли, но отвага пользоваться цветными рубашками в белую полоску не менее этапна в моей жизни, чем изобретение колеса в вашей. Брюки на мне — со вспученными коленями, на нем — глаженные под матрацем. И на нем и на мне подвернутые. Мои выглядят вполне терпимо, потому что подвернутые мятые нормально, а подвернутые глаженые — нелепость. Ниже брюк идут носки. И у меня и у него они на носочных резинках (иначе тогда не держалось), но на нем подозреваются еще и кальсоны — верха носков вспухли. Обувь наша малопонятна, ибо дорога (а мы до кочек двигались друг другу навстречу) шла по грязи, хотя и блистающей, но глубокой и липкой, а значит, обутки не видать. Вся она плюс носочные щиколотки обложена затворенным на холодной воде блинным тестом весны.
Он, правда, в галошах, а я галоши ни за что не надену.
Галошные кромочки его четко обозначаются жидкой грязью, отчего видно, что галоши — с языками, а это — вообще срамота.
Придя домой, я останусь в чем пришел; грязь высохнет и отвалится. Он, придя куда шел, галоши снимет, и обнаружатся начищенные, как он говорит, «щиблеты». Однако верха «щиблет» тоже будут сперва в тяжелой сырой, а потом в подсохшей и неотлипшей глине.
— Ты заметил, — говорит он, — сплошная грязь! И как долго! Давай считать: март, апрель. — Он загибает суетливые пальцы. — До середины мая. Потом летняя, после дождей — еще полтора месяца. Потом сентябрь, октябрь, ноябрь. Ноябрь — до середины. А оттепели? Клади еще две недели. Получается семь месяцев в году! Почему же в библиотечных книгах не пишут про эту грязь, через которую даже глубокие галоши не спасают?
Он прав.
Я вынужден обвинить прекрасную литературу нашу в неоправданном предпочтении. Она пренебрегла семью[1] ради пяти. Отсиделась в усадьбе. Опрятной, благолепной, милой, иногда заросшей, запущенной, но не утонувшей в грязи. А грязь непроходима и вездесуща, и кроме на дровнях обновляемого пути, проселочным путем скакания в телеге, кроме осени первоначальной — сплошь грязь. Не на песке же все стояло!
Как можно ограничиться лаптой с барышнями-крестьянками, бузинными дворянскими гнездами, беседочными недоразумениями приятнейших людей, если грязи, какую натаскивали вздыхать в беседки, отдавая визиты соседям, садясь в брички (дно брички становилось черт знает каким!), подсаживая после дождя барынь в тарантасы, если грязи, повторяю, борзому по щипец?
Как стаскивали заляпанные сапоги? Куда ставили? Где счищали с них воронежский чернозем? Прямо у крыльца? По вестибюлю на задний двор несли? Но она же отваливается, пока несешь! Страшно подумать, даже княгиня Лиговская могла наследить у кузины в диванной.
И во что, во что переобувались?
Невозможная была грязища. Все было ей обречено. Вся Россия.
Не фигуральная, конечно, не подноготная — подножная, она загустевала в крови, налипала в навыки, и компенсацией, заклятьем, своего рода алыми изнутри глубокими галошами — следует почесть утра туманные, колокольчики мои, Днепр при тихой погоде и остальное прочее. Этим искупалось лопуховое неустройство улиц, убийственные проселки, слякоть и морось, и только лето красное вкупе со слюдяной зимой обладали чистым цветом и снежным блеском. Тютчев приплюсовал сюда первоначальную осень. Господи, такое под ногами — и ни полслова!
Миргородская лужа не в счет.
Она не есть знак всесветной этой распутицы, она — символ, литературный прием насчет обитателей, но не обиталища.
Разве что Бунин свидетельствовал и преуспел в этом. Но ни он на кочке против меня, ни я на кочке против него о Бунине знать не знаем, и я говорю:
— Да, про грязь мы не проходили.
— Но ты уже приносишь деньги? — вдруг перескакивает он. — Сколько? вопрос обязательно тревожен.
Про заработки он всегда спрашивает с опаской, ибо рвется сообщить, как много зарабатывает сам, но опасается, что не поверят. А ему и не верят, потому что столько он не зарабатывает.
— Я, — говорит он, — на одной «Зулейка-ханум» имел что-то пятьсот (по нынешним деньгам) за прошлый февраль месяц.
И глянцевые галошные глаза его глядят совсем испуганно.
— В общем, около четыреста двадцать… Хорошо, пусть будет триста десять! А ты сколько?
Тревога в нем растет, вдруг — больше.
— Ну, восемьдесят…
— Как?! Я с одной «Зулейка-ханум» триста на руки… А ты восемьдесят?
Теперь он не только боится, что я не поверю, но и стесняется унизить своими заработками мои.
— Словом, рублей двести пятьдесят или даже двести гарантированных!
Я гляжу спокойно и нагло.
Я провоцирую его тревогу.
— Не веришь? Сейчас трудовое соглашение… Вот же оно было… Не торопи…
Он лезет за пазуху. В галошных глазах — красная подкладка смущения и спешки.
— Вот же… только что… Сто шестьдесят… Цифрами и прописью… и треугольная печать…
Глаза трясутся. Опертый на галошный мысок аккордеон придерживается левой рукой, правая — за пазухой, где в трудовом соглашении сумма, пока он шарит, превращается в сто десять рублей столько-то копеек. И никакой печати.