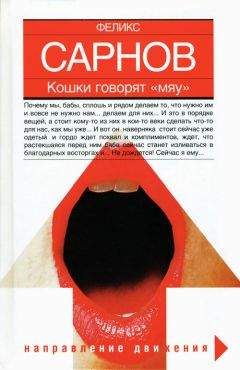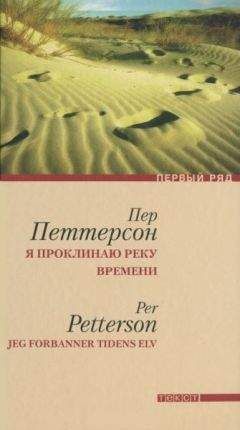Феликс Сарнов
Кошки говорят «мяу»
Все нижеследующее — чистый вымысел,
любое сходство с действительностью — случайно.
Автор.
«… Я укрыла ненависть к Господу в своем сердце. Каждый мужчина и каждая женщина, которые любят Его, и ненавидят Его тоже, потому что Он — жестокий Бог, ревнивый Бог. Он есть то, что Он есть, и в этом мире он часто платит болью и страданием за верную службу… „Такова моя воля…“, — говорит Он, и „Да, Господи, — отвечаю я. — Да исполнится воля Твоя“. А в сердце своем я проклинаю Его и вопрошаю: „Почему, почему, почему, почему?..“ И все, что я слышу в ответ, это: „А где была ты, когда Я сотворил этот мир“.»
Стивен Кинг. Противостояние.
Я приближаюсь к самому краю, подплываю к заветной…
(… the border, the percinct — почему-то перед оргазмом всегда думаю на неродном…)
черте и стараюсь растянуть это мгновение, покачаться на самом краешке, но с ним это невозможно — он никогда не подыгрывает мне в этом, — и он тут же закидывает мои ноги еще выше,
(Господи, куда же еще выше!..)
сильным движением проникает в меня еще глубже,
(Господи, куда же еще глубже!..)
и…
Моя матка моментально отзывается упругим всплеском, резкой судорогой, которая застилает мозги багровой пеленой, раздирает жутким наслаждением все нутро, проникает куда-то еще глубже, чем сама матка, и вытаскивает из набухшей глотки хриплый резкий крик. Вопль.
От моего вопля он сразу кончает, и бьющуюся в судороге матку окатывает струйка теплой влаги, от которой меня тут же раздирает следующий оргазм, а за ним еще, и наконец, я отключаюсь, выключаюсь, сдыхаю — меня просто нет.
Финиш.
Воскреснув, я медленно раскрываю глаза, медленно включаю все, чем могу сейчас ощущать то, что вокруг меня, и сначала чувствую, а потом, повернув голову влево, вижу, что он уже лежит рядом на спине и дышит почти ровно и почти забыл о моем существовании. Во мне схлестываются две противоположные силы: раздражение на него за то, что он никогда не дает мне покачаться на краешке, поторчать чуть подольше у черты, на черте, и… Жуткая благодарность за недавние всплески оргазмов, от которых все внутри еще приятно гудит и ноет.
Вторая сила, конечно же, без труда одолевает первую — раздражение, — и я поворачиваюсь и начинаю нежно целовать его по-голливудски красиво очерченный рот, по-ковбойски волевой подбородок и гладко выбритую щеку, пахнущую каким-то противным… Ну да, его любимый Denim-aftershave. Как там в рекламе — все в его власти?.. Это точно. Это — в самую масть. Уж во всяком случае, все, что касается меня — в его власти. Вся я — в его власти, и…
И я нежно трусь своей рыжей гривой об его загорелую грудь и лижу твердый ковбойский сосок, и глажу мускулистый живот своего хозяина.
Ему это совершенно не нужно, но он знает, что это нужно мне, и потому не возражает и даже машинально поглаживает мои распатланные волосы — точно так же, как иногда, сидя за компьютером и уставясь в дисплей, поглаживает уродливый деревянный нож для разрезки бумаг с нелепым красным шнурком, зачем-то продетым в дырку на конце рукоятки.
И засыпая, вернее, проваливаясь в жуткий, повторяющийся каждую ночь кошмарный сон, я крепко обнимаю его… Крепко обнимаю руками и ногами человека, который собирается дней через десять, максимум через две недели — когда вернется из Питера, а я вернусь из-за океана — не моргнув глазом, отправить меня на тот свет. Я знаю это так же точно, как знаю, что на тот свет отправиться он (с моей помощью, во всяком случае, с моей подачи), а уж потом — я (может быть, как фишка ляжет)… Как знаю, сколько родинок у него на груди, сколько раз у него встанет за ночь, если он настроен на это, словом…
Знаю. И нисколечко не боюсь — ни капельки, я даже хочу этого, потому что точно знаю и еще кое-что: если ему и удастся сделать это,
(вопреки всем моим расчетам…)
то когда покончит со мной, он покончит и с моим страшным кошмаром, в который я окунаюсь теперь почти каждую ночь с тех пор как…
С той ночи, за которой было утро, была странная поездка с мужем на …цатый километр загородного шоссе,
(…я плохо соображаю… Я вся скована жутким ночным кошмаром. Из которого никак не могу выбраться… Мне показали, что такое настоящий страх…)
на мусорную свалку, и там на этой свалке я увидела изуродованные трупы Хорька и его охранника (труп Хорька — безголовый). Которые потом схоронили в закрытых гробах, а во взгляде Седого на этих похоронах, ясно проскользнуло эдакое пилатовское: я умываю руки…
И с тех пор каждый раз, стоит мне только заснуть, я вновь оказываюсь там, и…
У меня больше нет сил выносить эту пытку. Больше нет сил вырываться из этого кошмарного бреда — раскрывать глаза, просыпаться и тут же понимать, что стоит мне снова заснуть,
(Господи, не могу же я совсем не спать!..)
как я опять окажусь там, где сверху, в мертвой серой пустоте висит багровый
(диск?.. Обруч?.. Тарелка?..)
круг, а внизу… Повсюду, на сколько хватает глаз, простирается красный — местами почти алый, а местами тускло багровый, — песок. И взгляду не за что зацепиться, разве что за огромные песчаные глыбы,
(валуны?…)
образованные из того же песка, из слипшихся друг с другом песчинок,
(сколько же времени нужно для того, чтобы из песчинок получились такие громадные глыбы?.. Столько, что само время должно быть каким-то другим! И оно — другое! Здесь — другое…)
но почему-то взгляд не может за них зацепиться, взгляд соскальзывает с них, и…
Тот день с самого утра был окрашен в юмористический тон. Почему-то все вызывало у меня смех — лопнувший тюбик с зубной пастой, внезапно выключившаяся, едва я успела намылить спину и грудь, горячая вода в душе, сломавшийся и сжегший бутерброды ростер, отскочившая крышка кофемолки, плюнувшей мне в физиономию недомолотыми кофейными зернами, и все прочие «прелести» нашего совкового быта. Всегда вызывавшие у меня глухое раздражение, в тот день эти прелести почему-то заставляли глупо хихикать — они словно подводили, легонько подталкивали к главному событию, пику всей сегодняшней клоунады, который должен распахнуть шлюз, сдерживающий смех, и исторгнуть из глотки настоящий хохот.
«Шлюз» распахнулся и я, наконец, с каким-то жутким облегчением расхохоталась, когда, придя домой на два часа раньше обычного, застала своего благоверного в нашей супружеской койке с не первой молодости блондинистой шлюшкой, испуганно натягивающей простыню на свои отвислые грудки, не замечая, что тем самым она одновременно стягивает ее с выпуклого брюшка и вяло приподнятого конца ее партнера — моего, извиняюсь, шаловливого супруга.
Это, и вправду, был пик клоунады.
Смех, а вернее, настоящий хохот вызывало все. И их нелепая поза, и ее вытаращенные намазюканные глазенки, и его жалкая идиотская ухмылка, и главное: разительный контраст того, от чего я минут двадцать назад ушла, с тем, что сейчас торчало передо мной.
Контраст просторной, со вкусом обставленной спальни моего красавца-хахаля с нашей убогой, захламленной квартиркой; контраст загорелого, налитого упругой силой тела моего мужика с брюшком и вялым отростком, всегда опадавшим (уж я-то знала!) от любого незапланированного скрипа нашей койки,
(чего уж там говорить про незапланированное появление благоверной…)
моего мужа; контраст этой потасканной шлюшки с уже опавшими грудками с хохочущей рыжей бабой,
(рыжей, если угодно, блядью, но… Настоящей блядью, а не жалкой подделкой…)
отражавшейся в нашем дешевеньком трюмо у разложенного старенького дивана; контраст широкого двуспального «аэродрома», с которого я соскочила пол часа назад, с этим стареньким польским диваном — нашим семейным ложем любви…
И когда шлюшка, впопыхах одевшись, убралась, и он, тоже прикрыв свои причиндалы трусами и старым халатом,
(еще одни контраст — час назад я с наслаждением заворачивалась в роскошный махровый халат с капюшоном, испытывая удовольствие и от мягкой шероховатой ткани, и от уверенности, что сейчас эту ткань с меня сдернут, и то, что сейчас ласкают прикосновения ткани, будут ласкать сильные ладони и твердые, резко очерченные мужские губы…)
в третий раз тупо спросил, почему я так веселюсь, я честно, откровенно и со всеми подробностями рассказала ему, почему.