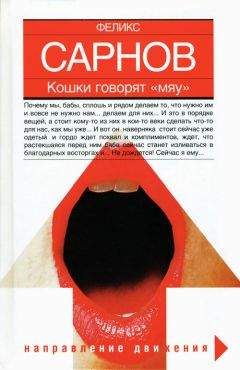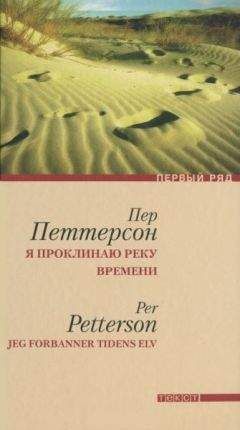Прямо на меня беззвучно несся красный трамвай, который… Который не мог нестись на меня, потому что стоял боком ко мне. Но он стремительно приближался, и я поняла, что не он двигается на меня, а я лечу на него.
Мне было все равно, я лишь вяло подумала: глюки, — но инстинкт самосохранения распахнул мои глаза, и… Почти ничего не изменилось, я по-прежнему летела на торчавший впереди трамвай — видимо созданная воображением картинка была такой яркой, что еще какое-то мгновение забивала реальность, но… Очертания трамвая стали дрожать по краям, расплываться, и в момент «столкновения» трамвай уже был почти прозрачным, и я пролетела сквозь него и…
Все исчезло.
Исчез весь этот странный глюк — я по прежнему брела по пустой улочке, и не было тут, конечно, никакого трамвая, даже призрачного, порожденного жалкой суицидной попыткой моего мозга. Мозга, не выдерживающего столкновения с реальностью,
(обшарпанный платяной шкаф с его содержимым…)
и потому выдумавшим столкновение с «трамваем».
Вот и кончилась вся жизнь, подумала я и неожиданно засмеялась. В самом деле, как смешно облекается настоящая боль в расхожие штампы. И как странно, что штампованность формы не отменяет реальности сути, правильности смыла, хотя… Не стоит преувеличивать.
Мой мозг выдал не просто жалкую попытку воображаемого суицида и вовсе не затем, чтобы меня испугать и увести подальше от возможности попытки реальной. Кстати, я и не испугалась, я лишь поняла…
Видимо у некоторых людей не одна жизнь. Может, жизней у них и не девять, как у кошки, но все-таки несколько. И когда кончается одна, начинается другая.
Одна моя жизнь кончилась, это верно, как бы штампованно это ни звучало. Но я — жива, а значит… Значит, началась другая. Это и хотело подсказать мне мое воспаленное воображение, когда «швырнуло» меня на красный бок трамвая. И выскочив с другой стороны, я…
Вдруг я почувствовала, что невыносимая тупая боль, мучившая меня много часов, исчезла — словно осталась в том «трамвае», сквозь который я пролетела, словно тот «трамвай» сыграл роль ситечка, в котором застряло все, что мучило меня, а заодно и какой-то здоровенный кусок самой меня, оставив меня без боли, но с какой-то здоровенной… Пустотой…
Но с пустотой можно жить. Нужно только постепенно заполнить ее чем-то, или просто подождать, пока она заполнится сама.
И я махнула рукой проезжавшему мимо «Москвичу», и села в него, и, увидев обернувшуюся ко мне веселую симпатичную мордашку молодого паренька, улыбнулась в ответ. И когда, подвезя меня до дому, он не взял протянутой пятерки, я дала ему свой телефон. А на следующий день встретилась с ним, чтобы дать, но вместо этого неожиданно для себя самой не дала, а взяла. Да так взяла, что парень, по-моему, был даже рад, когда я не осталась у него на ночь и ушла, сказав, что моя мамочка велит мне ночевать дома.
Мамочка давно уже не могла мне ничего велеть, и если бы в парне еще оставались какие-то силенки, я бы не ушла, но… Из кувшина можно вылить только то, что было в нем — так, по-моему?
Так.
И начиная с того паренька, уже всегда было так. Я больше никогда не тратила времени впустую, никогда не пролеживала в койке дольше, чем… В общем, я больше не давала, я — брала. А если им так уж непременно нужно считать, что берут они — на здоровье. Это же очень легко. Так же легко, как выдать проверку предмета их мужской гордости на оставшуюся прочность за ласку. Это и есть ласка, если… Если там осталось хоть сколько-нибудь прочности.
Правда, с зализывателем своих ран, а вернее, пустоты, я вела себя иначе, но… Просто у него я брала кое-что другое — душевный, так сказать, комфорт. Что в каком-то смысле, может, и поважнее оргазмов, впрочем… Оргазмы легко добирались в других местах. Блядство, да? В смысле, непорядочно, дескать, обманывать?.. Но скажите на милость, разве обманывать тех, кто хочет, чтобы их обманули, есть обман? Или блядство?..
Впрочем, так или иначе, блядство в его прямом смысле вскоре сошло на нет — с торчащим животом не очень-то поблядуешь, да как-то и не очень хочется…
— Ага, рыжая, — сказала я. — И бесстыжая. А что, рыжие — не такие, как все?
— Конечно, — кивнул он.
— А в чем разница?
— Они — рыжее.
— И все?
— Почти. Еще у них кожа другая. Веснушки… — он потянулся за сигаретой, но я перехватила его руку и снова положила себе на ляжку, а потом сдвинула выше.
— А еще?
— Еще у них вот тут, — он сдвинул ладонь еще выше и легонько погладил мой лобок, — горячее. Ну, хватит, не рвись на комплимент. Рыжим это не к лицу.
— А у тебя много рыжих было?
— Одна. И не была, а есть.
— Правда? Нет, не то, что одна, а что я — есть?
— Правда-правда… — пробормотал он и вдруг добавил: — Давай-ка, крути развод побыстрее. У меня через пол годика интересная поездка наклевывается, надо успеть все оформить.
— Что оформить? — не поняла я.
— Брак нам оформить, жопа. Иначе как я тебя возьму?
— Вот так, значит? — помолчав, спросила я. — А одного тебя, стало быть, не пустят?
— Почему не пустят, — недоуменно вскинул он брови. — Просто я хочу… А-а, ты подумала, что я из-за этого… — он рассмеялся. — Ну, Рыжик, ты все-таки дура.
— Правда? — вдруг по-детски обрадовалась я.
— Понадобись мне жена для галочки, — усмехнулся он, — ты бы очутилась в самом хвосте длинной очереди. Но… — он щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся. — Я ведь не в НИИ каком-нибудь сраном работаю, Рыжик. Контора, конечно, тоже живет по правилам, но — по своим. Так что вы, мадам, пальцем в небо попали.
— Я не мадам, — пробормотала я, трясь щекой о его литое плечо, — я — Рыжик… ты думаешь, я буду хорошей женой?
— Ты будешь хорошей женой, — рассеянно кивнул он, глядя на ровные колечки дыма, медленно поднимавшиеся к потолку.
— Но ты же сам сказал, что я не… Не безобидна. Это из-за того, как я его локтем, да? Я сама поразилась…
— Безобидная — это для галочки хорошо, — усмехнулся он. — И локтем ты, судя по всему, неплохо сработала, только…
— Что — только?
— У тебя хороший рост, средний мужской, поэтому… В следующий раз, Рыжик — если выпадет следующий, — в момент удара чуть согни коленки и чуть опусти правое плечико. Поняла?
— Нет… — машинально ответила я, попыталась представить себе, как это сделать, и вдруг поняла. — Но я же тогда попаду…
— Вот именно, — кивнул он. — Тогда тебе уже не придется ни о чем беспокоиться — он очень не скоро встанет, а уж у него… — он издал легкий смешок.
— А ты не боишься, что я когда-нибудь сделаю так с тобой? Именно так, как ты учишь, а?
— Не-а, — равнодушно помотал он головой и резким движением затушил сигарету в пепельнице.
— Почему?
— Во-первых, потому что я никогда не подставлюсь. А во-вторых, если подставлюсь, то нарочно, и тогда…
— Ну? Что — тогда? — нетерпеливо подстегнула я его.
— Боюсь, ты никогда уже не сможешь нормально двигать той рукой, которой попробуешь это…
— Ну да, — перебила я его, — вас же учат…
— Нас — нет, у нас совсем другие задачи, но конечно, кое-какую общую подготовку проходят все, так что…
— Это подлый удар, и я… Я никогда не смогу так.
— Удар, Рыжик, не может быть подлым — это определение просто неприменимо к… К смыслу такого действия, к его цели. Удар должен вывести цель из строя, и чем надежнее он это сделает, тем правильней его смысл. Ведь тебе тогда, — он повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза, — стало жаль его мужское самолюбие, его, — он едва приметно усмехнулся, — мужское достоинство, и поэтому пришлось утешить. Пришлось его трахнуть, верно? А если бы ты сделала чуть правильней — как я тебе объяснил, — то жалеть было бы просто нечего. Поняла?
— Но я же не машина… И он тоже — живой человек! Я не могу делать так больно — живому! Это… Это просто не по-человечески…
— А ты думаешь, своим утешением ты ему слабее врезала? Вряд ли, Рыжик, — он отвернулся и опять откинулся на спину. — Думаю, как раз покруче. Не двинув туда, куда надо было, ты его не добила. А тем, чем думала, что утешаешь, ты его только здорово раздразнила. И помяни мое слово, он тебе еще здорово помотает нервы с разводом.
— Я могла его добить, — помолчав сказала я. — Могла сказать ему про дочку — нашу дочку, — и… Чуть не сказала. Не знаю, что удержало…
— Правильно удержалась. Это нам совсем ни к чему. А с разводом пусть покуражится — время у нас есть, так что…