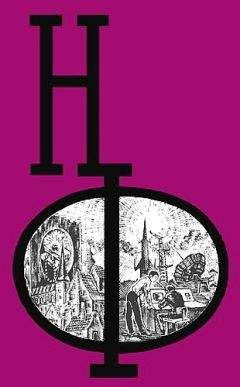У нее было пухлое красное лицо и тоскливые глаза.
— Добрый день, миссис Агню, — отозвалась Пегги.
Нагнувшись над перилами, миссис Агню с любопытством покосилась на Макэлпина; он тоже разглядел при свете фонаря часть ее стареющей физиономии. Она была наполовину шотландка, наполовину француженка. Муж, умерший десять лет назад, оставил ей этот дом, который она весь сдавала. Широкая, дружелюбная, понимающая улыбка расплылась по ее лицу.
— Снег глаза все залепил, — сказала она, смахивая влагу с лица. — Ваш знакомый, а? У — вас много знакомых, мисс Сандерсон, верно? Что ж, это неплохо. Это очень даже неплохо, когда у человека много друзей.
— О, вы тоже не так уж одиноки, миссис Агню, — сказала Пегги и оттащила Джима в сторону от посыпавшегося сверху снега.
Подняв головы, они увидели только носки галош, торчавшие над краем ступеньки.
— Нет, года уже не те, — ответила миссис Агню, — очень все это печально, мисс Сандерсон… Для меня, конечно. Я до того дошла, что сердце так и замирает, если мужчина мне хоть улыбнется. Ну а как же? Вдруг в последний раз? — она хрипловато хмыкнула. — Когда-нибудь вы меня поймете. Не сейчас, когда у вас друзей хоть отбавляй, а когда-нибудь позже… да.
Женщина шаркнула подошвой, еще раз осыпав Макэлпина снегом, и вошла в дом.
Макэлпин вслед за Пегги прошел в тускло освещенную прихожую.
— Здесь я живу, и мне здесь нравится, сэр, — произнесла она с легким поклоном. — Войдите.
Это была маленькая, скромная комнатка, окно которой выходило на густо залепленный снегом забор. Она была по-монашески скудно обставлена: почти никакой мебели, железная кровать, небольшая посудная полка, покрытая клеенкой, маленькая электрическая плитка, два стула с кожаными спинками и вытертый тонкий коврик на крашеном полу. На голых стенах проступали желтые пятна сырости. Суровая, как келья, комната не отличалась безупречной монастырской чистотой: она не выглядела опрятной. Пегги, перекладывая какой-то журнал с кровати на тумбочку, краешком глаза взглянула на гостя.
— Нравится вам у меня? — спросила она, и ее губы дрогнули в едва заметной улыбке.
— Здесь как в тюрьме, — сказал Макэлпин с таким убитым видом, что она не выдержала и открыто улыбнулась. Он не мог понять, что вынуждает девушку, которая, наверно, не так уж мало зарабатывает, жить в этой комнате; Пегги казалась здесь чужой.
— Если хотите, разденьтесь, — сказала Пегги.
Сама она сняла галоши и пальто, растянулась на кровати и, закинув ногу на ногу, посмеиваясь, наблюдала, как Макэлпин неуверенно снимает шарф, и, казалось, ждала, когда же он спохватится: «Что за нелегкая занесла меня в эту дыру?»
Он присел с ней рядом, словно доктор у постели больного, потом встал и в смущении начал расхаживать из угла в угол.
— Что же вы не угощаете меня виноградом?
— Ах да, конечно, — отозвался он.
— Тарелка здесь, на полке.
— Как красивы эти грозди! — сказал Макэлпин, складывая их на тарелку и подавая Пегги.
— Ну вот, давно бы так. А почему вы здесь? — вдруг спросила она. — Чего вы от меня хотите?
— Сам не знаю, — сказал он просто.
— Будьте добры, подойдите и сядьте здесь. Вы мне мешаете, когда так мечетесь по комнате.
— Слушаюсь, — он сел на край кровати. — А почему вы пригласили меня?
— Вы мне нравитесь, — ответила она. — Мне кажется, что по натуре вы порядочный и добрый человек, хотя с первого взгляда это не каждому заметно.
— С какого же взгляда заметили вы?
— Что вы мне нравитесь?
— Да.
— Вчера вечером, после того, как вы сказали одну вещь.
— Я сказал? Когда?
— Когда мы разговаривали о брошюрке, которую вы вытащили у меня из кармана.
— И что такое я сказал?
— Вернее, не сказали. Всего одно слово.
— Пусть так. Какое?
— «Чернокожие». Вы сказали: «негритянские».
— Я это сделал не намеренно.
— Тем лучше.
— Хм… значит, дело не только в книгах?
— Книги не существуют сами по себе.
— Я хотел спросить… у вас есть друзья среди негров?
— Вам это кажется странным?
— Здесь, в Монреале? Да, — сознался он.
Те немногие негры, что жили в городе, селились между железнодорожными путями и улицей Сент-Антуан, в пределах треугольника, основанием которого служила Маунтин-стрит, а вершина упиралась в Пил. Работали они главным образом грузчиками и посыльными, убирали в ресторанах грязную посуду или выступали на эстраде. У них были прачечные, услугами которых не пользовались белые, и три ночных клуба, охотно посещаемые французами. Зато неграм нельзя было останавливаться в хороших отелях и заходить в фешенебельные бары. Они сами это знали, и недоразумений не возникало.
— Где же вы их выкопали? — спросил он.
— Вы когда-нибудь бывали на Сент-Антуан?
— Нет, никогда.
— Эта улица находится в негритянском квартале, и там есть несколько ночных клубов. В них можно встретить очень славных людей. Слыхали вы об Элтоне Уэгстаффе? Он руководитель джаза. У них там есть еще превосходный трубач, Ронни Уилсон. Вы и о нем не слышали?
— Нет. Да и откуда бы, судите сами.
— Пожалуй, в самом деле неоткуда. Тем не менее они отличные музыканты.
— Надо будет как-нибудь сходить послушать, — заметил он.
Она лежала, заложив руки за голову, и Джим вдруг наклонился и заглянул в ее светло-карие глаза. Те, в свою очередь, пытливо и без всякого смущения смотрели ему в лицо ласковым, открытым, дружелюбным взглядом. Она была спокойна, безмятежна, как всегда, но что-то его к ней тянуло. Хотелось тронуть пальцами ее милое личико, перебирать светлые волосы, рассыпавшиеся на подушке. Его манила страстность, которую он в ней угадывал. Вот сейчас он поцелует ее, прижмет к себе, и она — он чувствовал — ему это позволит. Он нагнулся, чтобы поцеловать ее в губы, но девушка тихо отклонила голову. Лишь одно движение. Он мог бы поцеловать ее в шею, но не сделал этого. Он старался поймать ее взгляд и понять, что это значит. Отказ? Она лежала так же неподвижно, и тогда он осторожно положил руку ей на грудь, маленькую, округлую, упругую грудь, а потом коснулся шеи так легко и нежно, как может сделать только человек, который любит женщин и умеет с ними обращаться. Она лежала отвернувшись. И хотя ничем другим она не выразила своего неодобрения, этого оказалось достаточно. Самый резкий отпор не смог бы так отрезвить его, как это вялое безразличие, и сейчас он удивлялся, как он мог вообразить, что его ласки будут ей приятны. Но вот наконец их взгляды встретились. Джим отодвинулся и улыбнулся.
— Извините меня, — сказал он.
— Забудем об этом, — ответила Пегги. — Ничего особенного не произошло.
— Да, конечно, — согласился он. — Но мне не хочется, чтобы вы думали…
— Что именно?
— Да нет, ничего. Я просто хотел сказать, что с уважением к вам отношусь. Вот и все.
— Джим, вы не такой уж скверный. Что же вам мешает стать совсем хорошим? Сейчас вы — со всячинкой, но добрые чувства порою берут верх, ведь правда?
Без малейшего усилия она сумела сделать так, что им снова стало хорошо и просто друг с другом.
— Жаль, что мы не были знакомы в детстве, — сказал он.
— Отчего?
— Мы бы, наверное, дружили.
— Не думаю. Мне кажется, вы были таким благонравным мальчиком, первым учеником. Я вряд ли бы вам понравилась. Куда там! Конечно, нет. Вы бы меня не одобряли.
— Почему же?
— А по той самой причине, по какой не одобряете сейчас.
— Разве я вас не одобряю, Пегги?
— Разумеется. Вы бы относились ко мне точно так же, как мой отец. Ему тоже не нравилась моя дружба с неграми.
— Так вы и в детстве с ними дружили?
— Конечно.
— Но каким же образом… — он растерялся. — Вы откуда родом?
— Из маленького городка в Онтарио, возле Джорджиан-Бей[3].
— Там было много негров? Я что-то не знаю таких городков.
— Нет, всего одна семья. — Она чему-то улыбнулась, вспоминая. — У них было шестеро детей, и жили все они в таком нескладном трехэтажном доме, покрытом грубой штукатуркой. Он торчал на пустыре — узкий, высокий, с покатой крышей. Летом там не было тени, зимою лютовали ветры, а на стенах, там, где обвалилась штукатурка, чернели огромные дыры. К тому же он весь накренился наподобие пизанской башни, и мне всегда казалось, что сильный ветер его и вовсе опрокинет… Да, а мой отец был в этом городке священником методистской церкви.
— Понятно.
— Для вас что-то стало яснее?
— Нет-нет. Рассказывайте дальше, Пегги.
— Сейчас я понимаю, что в то время мой отец, несомненно, был искренним человеком. Но уже тогда было ясно, что он преуспеет в жизни — очень уж он красиво говорил. Та негритянская семья была в его приходе. С ребятишками я встречалась довольно часто: их мать ходила к нам стирать белье. Отец мой рано овдовел, и я почти не помню маму. Прачка всегда приводила с собой кого-то из своих детей, можно сказать, я выросла бок о бок с ними. От отца я никогда не слышала ни слова о цвете их кожи. Другие люди тоже ничего такого мне не говорили, ведь я была дочка священника. Насколько я припоминаю, жизнь этих детей представлялась мне тогда свободной и беспечной, хотя они и были очень бедны. Возможно, даже самая их бедность казалась мне привлекательной.