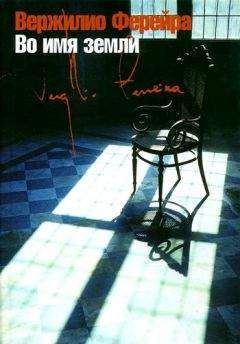— К каким только врачам я его не водила. Все впустую. Мое сокровище.
Ты тут же стала проявлять интерес к парню. Хотела подправить жизнь, столь глупую и нелепую, всегда хотела. Но нельзя исправлять глобальные вещи, как это делают политики, чтобы потом изменились частности. Хотя ты делала наоборот. Глобальное для тебя было отвлеченным понятием, а частность — конкретным, тем, что тебя неизменно тревожило. Политик безразличен к частностям, проблемами для него является общая формула. Должен тебе сказать, что наш Тео кое в чем похож на политиков, потом объясню. Но ты — нет, ты была такой всегда, постараюсь тебе напомнить. Ты брала ногу парня и вытягивала ее, сгибала, а я тебе говорил, что ты, видно, не знаешь, что существует специальная восстановительная гимнастика, и нужно поговорить с врачом, однако ты и слушать не хотела. А хозяйка наша все приговаривала: «мое сокровище» да «мое сокровище». Тогда я сказал ей: «Вы не должны его вдохновлять, называя все время сокровищем». А она в ответ: «Так ведь „мое сокровище“ — его имя».
— Он Бенвиндо,[7] но я никак не могла привыкнуть к этому имени. Так называл его мой муж, так звали его отца, у них в семье многих звали Бенвиндо.
Я ведь должен знать, что не только фамилия передается из поколения в поколение, но и имя. Некоторые семьи не хотят разнообразия и называют нескольких членов семьи одним и тем же именем.
— Я — Аделия, и в моей семье пять Аделий, и это только те, которых я знаю. Я-то хотела назвать его Себастьяном, Себастьяном звали моего первого возлюбленного.
— Себастьян — имя грубоватое, — сказал я.
— Мой возлюбленный был очень тонким молодым человеком, — ответила она.
Ты сгибала ему ноги, и как-то раз даже попыталась приподнять его. Но сокровище был тяжелым, как мертвец, мертвецы всегда гораздо тяжелее, чем живые, потому что смерть тоже весит. И однажды мы вывезли его в кресле на улицу и к морю. Он плохо и мало говорил и брызгал слюной, а потом вовсе замолчал. Как-то я сказал тебе: «Обрати внимание, парень не спускает с тебя глаз». Это был потрясающий взгляд, в котором читалось многое. Мы захотели научить его играть в карты, но карты выпадали из его рук, а он неотрывно глядел на тебя. И так до тех пор, пока ты сама не рассказала мне, как пыталась научить его поворачивать голову, а он схватил тебя за руку и покрыл ее поцелуями и слюной. Ты разнервничалась, бросилась мыться, протираться духами и ушла из дома. Потом как-то — когда же это было? не помню — как-то мы поговорили с врачом, и он сказал, что все совсем не так, как рассказывает мать парня.
— Ничего, когда он купался, с ним не случилось. Мать всегда рассказывает эту историю, непонятно зачем. Может, чтобы выглядеть благороднее и красивее, что-нибудь в этом роде. У нее есть фотография парня, она ее вам еще не показывала? Фотография истертая — в стольких руках она побывала! На снимке стоит здоровый парень в плавках на пляже, паралич его разбил позже.
Врач нам объяснил все, но я уже не помню. Паралич. Неизлечимый. Помню, что, когда мы пришли домой, парень, вертя колеса, пустился по коридору прочь, как только нас увидел, и ты не сказала ему ни слова, а, войдя в комнату, бросилась на кровать ничком и громко, безутешно заплакала. Я тебя ни о чем не спросил, чтобы не знать. И не раздражать тебя, потому что ты и сама ничего не знала и не хотела знать. И что можно было знать? — спрашиваю я, что? Была ли это гордость или сострадание? Или какое другое, еще неведомое несчастье, которое еще не проявило себя, но уже подало сигнал, как любое несчастье? Между тем, когда ты знаешь, что болит и почему, болит меньше, чем когда не знаешь. И становится очевидным, что обмануться невозможно. И говорить о чем-то — значит сделать это что-то реальным, поэтому мы не говорили. Но, как это ни странно, ты продолжала свои занятия по восстановлению здоровья парня, продолжала. Часами сгибала и разгибала его ноги. Тренировала мышцы рук, чтобы он мог поднять мир. Как и мышцы шеи, считая, что беда в них. А он смотрел на тебя восторженными глазами. Потому что упражнения твои будоражили в нем глубинные чувства, приводившие его в восторг. И я сказал тебе, Моника:
— Моя дорогая, ты создаешь парню проблемы.
И так было до тех пор, пока он вновь не обслюнявил твою руку, целуя ее, и тогда ты сказала, согласилась с тем, что поступаешь глупо. С тех пор ты обедала в лицее, а я — в ресторане возле суда. И вечером мы тоже ужинали вне дома, ведь хозяйка сдавала нам только жилые комнаты, и если вдруг мы и ели дома, то бутерброды, молоко, фрукты, не выходя из комнат. Но парень знал твое расписание и ждал твоего возвращения, а ты, видя его, приветствовала, но проходила мимо. Иногда, правда, клала ему руку на голову. Его пронзала молния, и он пулей летел по коридору, крутя колеса кресла-каталки. Мать, слыша грохот колес, распахивала двери своей комнаты, впуская его, и тут же запирала их, не произнося ни слова. Все мы что-то ставили на карту в этой игре, не зная, что именно. Похоже, твое тело — оно было разменной монетой, было, не знаю… Зеркалом, в котором мы себя видели играющими. Что-то в этом роде, если не так, скажи. И не без моей гордости и скрытого ужаса, и абсурдной глупости или нелепости, так, именно так. И твоей большой жалости, говорившей о том, что ты владела многим. Ну, и еще деградации, сумасшествия, низости, которая увидела красоту, оценила и прельстилась. Красавица и чудовище, явно. Почему так пошло? Красавица и калека, приговоренный к скорой смерти, вечный пленник кресла-каталки, горемыка. И жалость, которая балансирует на скользкой поверхности, и огромное удовлетворение от покровительства, которое дает право быть хозяином положения, хозяином собаки, вполне возможно любимой. Огромное удовольствие от того, что ты не такая и даже вовсе не такая. Удовольствие от риска, что можешь быть побежденной или восторжествовать над судьбой — не знаю. Я как-то спросил тебя об этом, ты так рассердилась. «Я с твоими домыслами не согласна, — сказала ты. — Это вздор. Даже не верится, что подобное могло тебе прийти в голову. Безнравственная мысль». И прочее, сказанное в сердцах, что было явно слишком. Всем этим я был очень смущен, но благоразумным быть не хотел. Или, возможно, не хотела ты. Возможно, не хотела ничего знать, чтобы не быть ответственной, и, когда я спросил тебя об этом, вспылила от унижения. Однако, любопытно, как сказанное все сразу узаконило. Выставленное на обозрение, уже не требует сокрытия. И с того самого дня ты стала разговаривать с парнем хоть и не без робости, но и без намека на задушевность. Случалось и нам вдвоем с ним разговаривать, но это болезненной обезьяне не понравилось. И он перестал появляться в коридоре. Появлялась мать — как странно. Едва с нами разговаривала, явно показывая, что имеет на это право. Но однажды…
Я вернулся домой позже обычного, шел сильный дождь. Весь промокший, я хотел побыстрее переодеться и резко распахнул дверь. И тут же увидел парня, но какое-то время осознавал увиденное, хотя уже заставал его у замочной скважины. Мне нужно было как-то заявить о себе. Дверь наша находилась в конце коридора, я покашлял, потопал ногами по ковру. Парень не сразу осознал, что я появился, а потом тут же отпрянул от двери. И пустился на кресле-каталке мимо меня по коридору. «Привет, Бенвиндо!» — я даже тронул его голову. Когда же я вошел в нашу комнату, то увидел тебя сидящей за столом вполоборота к двери, ты готовила план урока. Я сказал: «На улице дождь, я весь промок». — «Переоденься сразу, — сказала ты. — И выпей чего-нибудь, не простудись». С внутреннего двора доносился шум дождя. Я переоделся, глотнул коньяка, подсел к столу с сигаретой. Мы слышали шум дождя, дождь располагал к разговору, который был нужен. Ты готовилась к завтрашнему уроку, и я никак не мог уловить момент, чтобы вставить слово. Несколько раз делал попытки, но они не увенчивались успехом. Потому что справедливость слова, как ты знаешь, заключена не в самом слове, а в том, кто это слово воспринимает. Теперь, правда, думаю, что это и не совсем так. И вдруг, понизив голос, обычно громкий, сказал:
— Знаешь, кого я увидел, кто подглядывал за тобой в скважину?
— Опять? — спросила ты, не отрываясь от работы. — Бедный. Я ведь уже заткнула ее. А он опять, и ты его застал.
Ты не перестала графить бумагу, которая должна была стать планом занятий на неделю. «Но почему ты говоришь „бедный“?» — «А что бы ты хотел, чтобы я сказала?» И неожиданно перестала графить, и твое лицо помрачнело. Грусть, вопрос, подозрение. Внезапный страх на твоем лице. Я тоже помрачнел. Так длилось какое-то время. Дождь усилился. Мы слышали, как он лупил по каменным плитам двора, нарушая тишину нашего молчания. Ты заговорила первой:
— Завтра же поищу другое жилье.
Жилье мы нашли. Одну комнату. Она была больше, и в нее вошел весь наш скарб. В углу комнаты стоял большой стол. Вполне удобно. Окна выходили на море. Вдова потребовала с нас компенсацию, не помню, за месяц или больше. Мы попросили, чтобы она ничего не говорила парню, но она спросила, почему. Мы ответили не сразу, потому что не знали сами. «Потому что парень очень ранимый, — сказала ты, наконец, — это может огорчить его». — «Это — ерунда», — сказала хозяйка. — «Как сочтете нужным», — добавил я, придя к разумному решению. И действительно. Теперь парень все время вертелся в коридоре, не обращая на нас никакого внимания, внимание обращала ты, поворачиваясь к нему и глядя ему вслед. И в тот день, когда мы покидали их, возможно, ты не помнишь, но нет, это невозможно… Я-то помню, Моника. Память статична, она запечатлевает мгновения недвижные. Застывшие образы, образы вечности, в которой пребываешь ты. Неожиданные озарения. Память не фиксирует движение, дорогая, а в воображении оно застревает. Ванная находилась в конце коридора, почти напротив кухни. Ты пошла принять ванну и задержалась. Я тоже хотел привести себя в порядок, был воскресный день, и я решил поторопить тебя и спросить, долго ли ты еще будешь купаться? Но, когда я выходил из нашей комнаты и замешкался, раздумывая над принятым решением, ты уже вышла из ванной и была в коридоре, в другой стороне которого находился Бенвиндо. И в этот самый момент твой халат распахнулся, и я увидел, увидел все твое обнаженное тело целиком, с головы до ног. Ты сделала несколько шагов, потом запахнула полы халата, завязала пояс и вошла в комнату, я тут же запер ее, чтобы мы могли понять случившееся. Шума колес слышно не было. Парень, должно быть, окаменел, потрясенный твоим великолепием, так каменели в мифах герои. А ты осталась особенно горда своим дароприношением. Но твоя жалость должна была ужалить больнее, чем жалит быка проклятая бандерилья.