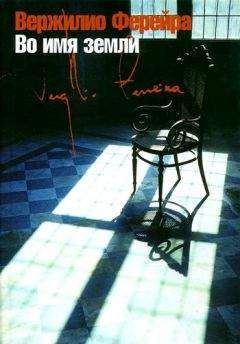Жилье мы нашли. Одну комнату. Она была больше, и в нее вошел весь наш скарб. В углу комнаты стоял большой стол. Вполне удобно. Окна выходили на море. Вдова потребовала с нас компенсацию, не помню, за месяц или больше. Мы попросили, чтобы она ничего не говорила парню, но она спросила, почему. Мы ответили не сразу, потому что не знали сами. «Потому что парень очень ранимый, — сказала ты, наконец, — это может огорчить его». — «Это — ерунда», — сказала хозяйка. — «Как сочтете нужным», — добавил я, придя к разумному решению. И действительно. Теперь парень все время вертелся в коридоре, не обращая на нас никакого внимания, внимание обращала ты, поворачиваясь к нему и глядя ему вслед. И в тот день, когда мы покидали их, возможно, ты не помнишь, но нет, это невозможно… Я-то помню, Моника. Память статична, она запечатлевает мгновения недвижные. Застывшие образы, образы вечности, в которой пребываешь ты. Неожиданные озарения. Память не фиксирует движение, дорогая, а в воображении оно застревает. Ванная находилась в конце коридора, почти напротив кухни. Ты пошла принять ванну и задержалась. Я тоже хотел привести себя в порядок, был воскресный день, и я решил поторопить тебя и спросить, долго ли ты еще будешь купаться? Но, когда я выходил из нашей комнаты и замешкался, раздумывая над принятым решением, ты уже вышла из ванной и была в коридоре, в другой стороне которого находился Бенвиндо. И в этот самый момент твой халат распахнулся, и я увидел, увидел все твое обнаженное тело целиком, с головы до ног. Ты сделала несколько шагов, потом запахнула полы халата, завязала пояс и вошла в комнату, я тут же запер ее, чтобы мы могли понять случившееся. Шума колес слышно не было. Парень, должно быть, окаменел, потрясенный твоим великолепием, так каменели в мифах герои. А ты осталась особенно горда своим дароприношением. Но твоя жалость должна была ужалить больнее, чем жалит быка проклятая бандерилья.
А теперь, дорогая, я хочу чуть-чуть отдохнуть. Мне многое еще надо тебе сказать, но не сейчас, потом. Я вытягиваюсь на кровати, не помню, говорил ли я тебе о своей комнате. Ведь зная мою комнату, ты как бы находишься рядом со мной, и это письмо — мой маленький трюк — позволяет тебе здесь находиться. Потому что после всего того, что произошло в моей жизни и причинило мне боль, после всего того, что со мной случилось, — и хорошо, что случилось, — и было печально, и несло в себе радость или несчастье, как, скажем, праздничный подарок или террористическая посылка-ловушка, — из всего того, что выдает мне сейчас несколько искаженно моя память, никогда не исчезнешь ты, мое воспоминание о тебе, твой совершенный образ тех времен, когда ты была совершенна, и жизнь еще не начала молотить твое тело, и слово твое было свежим, как яблоко, и мозг твой был свободен, как открытая веранда. Только что сказанное вышло у меня таким длинным и утомительным, что тебе надо передохнуть немного. Веранда. Здесь. В доме, где я нахожусь, два типа общества, сейчас объясню. Одно — старики на исходе жизни, безумные, заикающиеся паралитики, уже готовые к вечности, и другое — вполне функционирующие чудаки, у которых нет семей, где функционировать, и они приходят сюда, чтобы есть и спать. Это очень любопытные субъекты, расскажу потом. А кроме того, еще те, кто переступил недоказуемый рубеж, после которого считаться людьми они уже не могут, о них я тебе уже говорил. Для меня определенного отделения нет, и мне разрешается иногда общаться с более живыми, но в общем-то я принадлежу к сломанным моторам, и моя комната здесь, близко. В обеденное время, когда мы составляем общество, то рассаживаемся в трех залах: те, что больше походят на людей, находятся к глубине коридора, подальше от тех, кто пачкается и страдает отсутствием аппетита. Потом дорасскажу, устал. Я уже тебе говорил о Христе, изображение которого я повесил на стену, и о фреске из Помпеи, и о рисунке Дюрера. Несколько дней назад капеллан… Но я тебе о нем еще не говорил. Несколько дней назад он был здесь, он знает нашего сына Теодоро, потом объясню, откуда. Был здесь, смотрел на эти три образа, — я объединил их в триптих с Христом посередине, — смотрел и начал пускать мне пыль в глаза. Он сказал:
— Посмотрите-ка, доктор. Вы, конечно, не задумывались о том, что и так ясно, но посмотрите, как вела вас рука Господа. Фигура великолепной женщины…
— Это богиня, — сказал я ему. — Языческая богиня.
— Тогда у меня еще один довод. Языческая богиня, скелет тщеславия и заблуждений и посередине Христос Искупитель, придающий всему смысл.
Мне надоела его проповедь, и я сказал, что это скорее всего совсем не то. «А что же, доктор?» — «Возможно, христианский Бог, языческая богиня, а в финале скелеты обоих». Но капеллану услышанное не понравилось, и он сказал: «Что за глупость». Потом стал распространяться о старости и о рискованности неверия или презрения к вере, на которые она, старость, отваживается. Сказал так же о книге или трактате Цицерона о старости, в котором подчеркивается ее величие и достоинство, доказуемое историческими примерами, процитировал несколько фраз по-латыни в подтверждение сказанного и предложил принести эту книгу, но я сказал, что не хочу: все это ложь. Он разозлился и ушел. Дорогая. Если бы ты пришла. Я был бы счастлив тебя увидеть. В любом возрасте, в любом виде я готов тебя любить. В юности с твоей стрижкой à la garçon,[8] в зрелом возрасте, когда ты была энергичной, зажигательной женщиной, воспламенявшей меня, едва я тебя видел. Или позже, в возрасте этой богини Весны, которая у меня здесь, на стене. И даже в конце жизни, когда я тебя поддерживал, уже хромую, приходившую в замешательство от столкновения с обычными вещами, и мы шли обедать в ресторан, тот, что против нашего дома. Если бы ты пришла. Однако, если бы ты пришла, возможно я не смог бы сказать тебе то, что говорю сейчас, потому что для трудных слов любое присутствие помеха. С другой стороны, мне практически здесь говорить не с кем. Беседую сам с собой, но не говорю. Исполняю свой долг общения, но только когда слушаю, а вот сегодня разговаривал с Христом, изображение которого висит у меня на стене. Ты помнишь его, раньше он висел у нас в гостиной на бечевке, я привез его из деревни. Сколько всего мне хотелось бы сказать ему, но с чего начать, не знаю. И все же я сказал:
— Многое хочется сказать тебе, но с чего начать, не знаю…
Это ему не понравилось. Он, конечно, сыт по горло толпой, что докучает ему беседой. «Упорство всех вас, кто постоянно меня вопрошает». «Кто же тебя вопрошает?» — спросил я. «Все, кому не лень». — «Так ты должен быть этим доволен, — сказал я, — однако заметь, что больше всего докучали твоей Святой Матери». — «Я не знал, возможно, но теперь докучают в основном мне. В давние времена, во времена знатных господ, когда достучаться до них не было никакой возможности, без сомнения, все мольбы и просьбы были обращены к моей матери. Но сейчас все хотят быть господами, а в ответе за все я. Мне все время достается: Христос то, Христос это, Христос бедных. Христос — сторонник прогресса, Христос — революционер с бомбой в кармане или узник инквизиторов. Постоянно. И шлют проклятья и брань, считают меня виновником всех мерзостей мира и взывают „О, Господи!“ и хотят, чтобы я видел всю грязь и интриги, и спрашивают меня, зачем же я страдал на кресте, если все так, как было. Всем этим я сыт по горло. А ты, тебе что надо?» — «Ничего. Почти ничего. Одну вещь, которую, не знаю, может и вещью-то назвать нельзя. Все, что можно было назвать вещью, уже названо. Так что же я хочу сказать тебе? Не так уж и много. О признании человека человеком, но не во славе, а в унижении, не в радости, а в страдании, не тогда, когда человек здоров, а когда болен и гниет. Во всяком случае… подожди, дай подумать. Во всяком случае, мне не просто сказать тебе, что я не очень-то восхищаюсь твоими мучениями. Или не совсем так. Меня, как и должно, трогают твои кровоточащие раны и то, что ты истерзан. Но не мешало бы тебе посмотреть на меня здесь, увидеть меня здесь, как бы помещенным в твое тело, не задумываясь о том, что было до и после. Трогает меня, возможно, больше твое слово, оно было столь ласково и щедро, когда ты говорил. Но послушай-ка. Люди ненавидят Иуду, который тебя предал, и лицемерного подлого Пилата, и сукиных детей, что тебя истязали. А теперь представь, что Иуда оказался бы человеком порядочным, и Пилат тоже. И мерзавцы, которые тебя терзали, тоже оказались бы людьми хорошими. Мы все были бы обмануты, не так ли? Ведь твоя миссия осталась бы не выполненной. Ты пришел, чтобы умереть за своих братьев и сестер — за человечество, и не сумел этого сделать. Твой план провалился из-за отсутствия бандитов, которые должны были тебе в том поспособствовать. И как бы тебе тогда в твоем божественном теле удалось вернуться в лоно Отца Небесного? Каковы были бы твои объяснения? Скорее всего ты стал бы говорить: я сделал все, что мог, проповедовал добро и любовь к ближнему, и проповедь моя была услышана, и сколько я ни пытался вызвать гнев своих врагов, никто из них даже пальцем меня не тронул. И все человечество, которое поверило мне, теперь будет разгневано тем, что я за него не умер. Но так случилось. Ты замрешь перед Отцом Небесным в ожидании, что же он скажет. Но как бы там ни было, а тебе повезло: твой план осуществился. И ты умер, как и собирался умереть. И даже прославился, вознесясь в небо со следами страданий на твоем земном теле. И вот именно это меня и интересует. Сострадание этому твоему телу. Горечь одиночества. Каким же одиноким ты должен был себя чувствовать! И вот здесь, в этой твоей боли, я тебя понимаю, понимаю как себя самого. С той лишь разницей, что моя боль — боль человека, лишенного какой-либо божественности. Хотя твоя бедняжка Мать трогает куда больше. Я представляю ее далекой всему тому, что тебе было назначено исполнить вместе с бесноватыми, которые должны были тебе в том споспешествовать. В сущности, ты им должен быть благодарен за их склонность к сотрудничеству. Но твоя бедная Мать была вне всех этих договоренностей. Ты был ее сыном, и смерть сына для нее такая печаль, которая способна затмить весь мир. Бедняжка, знать бы ей о твоем божественном предназначении. То, что ты, ее сын — божество, она, конечно, знала, поскольку это не новость ни для какой матери, как не новость и то, что на этом свете ты — объект для плевков, унижения и смерти. Ее страдание мне больше понятно, чем твое. Как и твоего земного отца. А кстати, что с ним стряслось? Люди узнали о нем, когда ты родился, потом все потеряли его из виду. Никто никогда больше его не видел. Где он был, когда тебя убивали? Разве отец не имеет права на страдание? Интересно знать, плакал ли он? Слеза, как ты знаешь, не всегда была неискренна. Так имеет ли право мужчина поплакать? Во всяком случае, он должен был свое отстрадать, пусть не на виду у всех, не среди шума, а в тишине, в ночи своего отчаяния. Рассказчики твоей истории забыли о нем. Я представляю его стоящим в укромном углу или даже посреди толпы и взирающим на весь этот ужас. Ты его видел? Он обменялся с тобой взглядом или словом, проходя мимо? Бедный твой отец Иосиф. Мне его бесконечно жаль, потому что никто к нему не испытывал жалости. Он был одинок. Возможно ни у кого для него не нашлось слова утешения, как и для тебя тоже. Никто о нем даже не вспомнил за всю твою жизнь. А может, миссия твоя обязывала тебя замечать только женщин? О Матери твоей мы слышали не однажды, об отце — никогда. Нет, один раз. Подожди, сейчас вспомню. Один раз, и вроде это было в Кане?[9] Но был ли он там, мы его так и не увидели, значит, не был. Он действительно был твоим отцом, ты ведь выдал себя за сына человеческого, таково было твое происхождение и предназначение, не знаю, помнишь ли ты это.